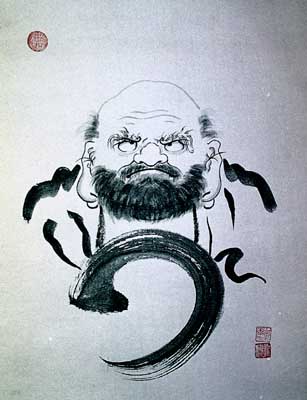|
Subject: ОФФ: как бы вы ответили на этот вопрос. gen. So I’ll be interested to hear your thoughts on recent social, economic, jurisdictional and political developments in RussiaСпасибО! |
| нах? |
| Serge1985+1 |
| или "них":) |
| Это интервью? |
|
link 6.09.2011 13:31 |
| Правильный ответ: - Ага, щас! |
|
у нас ж скоро очередные выборы Интеллидженс ооооочень интересуется... |
|
$$$ "Позолоти ручку, и тогда ...." Survey on...... $$$ Тут не просто "ответили", а "подготовили исследование". |
| У Вас нет своего мнения?... |
| а у вас? |
| Сообщите о таких вопросах в ФСБ :)) |
| дык, 58-я ... |
| понятно все со статьями. Как бы вы ответили? |
| если вопрос задан на английском, то... 122 |
| - Will be happy to. You know my rates, don't you? |
|
eu_br а можете как нибудь раскрыть свой ответ....? а то меня "накрыло" вариантами... |
| В каком смысле "раскроете"? Цену согласуем - и сразу все thoughts выложу... |
|
20 ЛЕТ ПОСЛЕ СССР | 03.08.2011 Россия: без стабильности, без претензий, но с легкой тенью сожаления http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15294729,00.html http://www.dw-world.de/dw/0,,100074,00.html |
|
Джон Ланкастер в одиночку, Преимущественно ночью, Щёлкал носом — в нём был спрятан инфракрасный объектив; А потом в нормальном свете Представало в Интернете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив: Например, клуб на улице Нагорной Но работать без подручных — Епифан казался жадным, "Вот и первое заданье: И ещё. Побрейтесь свеже. А за это, друг мой пьяный, — |
| Павел Андреевич, Вы — шпион? |
|
link 7.09.2011 7:35 |
| damn, it's all going downhill ......... (и немедленно выпил) |
| Кэп, а где же "(с)"? |
|
Те, кто знает, и так знает. А кто не знает, что толку от буковки? Они и про буковку, небось, тоже не знают. |
|
link 7.09.2011 8:07 |
| There are no "developments". There's only shit because Russia is reigned by mafia who are not interested in making the country better. Any more questions? |
|
Источники сведений стратегической разведки <> ... •Социология, включая сведения о населении, религии, образовании, национальных традициях и моральном духе народа. •Политическая информация, включая сведения о системе государственного управления, политических партиях, внешней политике. •Информация о различных политических деятелях и влиятельных лидерах в стране. <> http://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегическая_разведка |
|
***Russia is reigned by mafia*** ЁПТЫТЬ!!! Организованная преступность пришла к власти в России в октябре 1917 года и с тех пор ни на секунду не уходила. Скоро этому режиму исполнится 100 лет. Так в чем же заключается новость? |
|
... не поймите меня правильно... ... это я призываю к оптимизму... всё - замечательно, а будет еще лучше!!! ... добро обязательно победит ... порок будет наказан ... как в "Гамлете"...:))) |
|
...а если непредвзято приглядеться, то можно увидеть, что преступность - это обратная сторона справедливости ... спросите любого на улице, что бы он(а) сделал(а), если бы ... - первое что скажет - "Поубивал(а) бы их всех!!!" |
|
link 7.09.2011 17:00 |
|
"спросите любого на улице, что бы он(а) сделал(а), если бы ... - первое что скажет - "Поубивал(а) бы их всех!!!" отличное подтверждение того, что добро не побеждает зло, а вовсе даже наоборот. Не уверен, что СССР был "откровенно бандитским" государством, - не могу сказать, сам там жил только до семи лет; одно точно - гнилостность России представляет собой настолько прогнившую гнилостность гнилья, что Союз рядом не валялся. |
|
...категорически не согласен... мне лично нынешняя Россия нравится в тыщу раз больше чем сортирный ССССССРРРРРР. По крайней мере со всех сторон не ебут мозги грёбаным коммунизмом ... Да, детям в СССР жить было неплохо - лагеря, школы бесплатные ... институты ... нннно потом начиналась взрослая жизнь и на этом сказка заканчивалась .... ..да ... со стороны СССР на многих производил хорошее впечатление, как красивые кожаные бутсы, если не знать, что они оба на одну ногу и на три размера меньше... А в нынешней России жить стало комфортнее ... по сравнению с говеным ССССССРРРРРРРРРРР - просто рай ... А с Америкой сравнивать просто глупо - они нас обогнали лет на 300 ... и кстати, тоже загнивает, причем довольно успешно ...:) |
| ... и не стоит забывать, что добро - это окончательно победившее зло ... так было, есть и будет ... селяви..:) |
|
это не я придумал «Добро можно делать только из зла, потому что больше его просто не из чего делать». Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать |
|
link 8.09.2011 16:29 |
| Вот ваш афоризм "добро - это окончательно победившее зло" мне гораздо больше понравился. |
| И тут Остапа понесло.... Это я про стодвацатьтретего :-) |
|
123 + много :-) нащот пионэрских лагерей. Ну ты нашел о чем ностальгировать. Убогое меню, туалеты с дырками, где пол густо засыпан хлоркой, баня раз в две недели. Мои б дети не смогли и пары дней там провести. Щас можно в любую страну ехать отдыхать. Просто халява кончилась :-) |
|
А в Японии планируется в самом недалёком будущем достичь тотального высшего образования нации... Они идиёты? |
|
***нашел о чем ностальгировать*** ...ннну да, мне нравилось, особенно один раз, когда на Черном море был ... правда вожатые, суки, не давали купаться сколько хочешь ... но в остальном - красота... |
|
= Убогое меню, туалеты с дырками, где пол густо засыпан хлоркой, баня раз в две недели. Мои б дети не смогли и пары дней там провести. = Если мне память не изменяет - |
|
= Скоро этому режиму исполнится 100 лет. = Мне почему-то думается, что первая попытка строительства капитализма (с перерывами) длилась 67 лет. Потом было 50 лет режима. А потом начался маразм и карнавал мышей. |
|
баня в лагере (и даже в армии) - раз в неделю. а мои дети принимают душ дважды в день. period |
| Чё, такая работа грязная, что ли? |
|
Dmitry G, Я как то вас воспринимал, как более серьезного человека. Ан нет, тупой совок хохмач |
|
D-50 = а мои дети принимают душ дважды в день. period = А Клинтон родился в доме без горячей воды и с удобствами во дворе. И что? |
|
Да то, что мир не стоит на месте, Гуркх. Иначе срубите себе избу с удобствами во дворе, выбросьте ботинки, свяжите себе лапти и лабайте на балалайке по вечерам вместо выстукивания херни на киборде. |
|
link 9.09.2011 0:28 |
|
\\ а мои дети принимают душ дважды в день. period \\ \\ Я как то вас воспринимал, как более серьезного человека. Ан нет, тупой совок хохмач \\ действительно - как можно! |
|
А я Вас как воспринимал, так и воспринимаю. Без ошибки :) Period. Мон шер ами D. |
|
link 9.09.2011 5:43 |
| D-50 не перестает меня радовать))) Дай вам бог здоровья! Серьезно. |
|
***срубите себе избу с удобствами во дворе, выбросьте ботинки, свяжите себе лапти и лабайте *** ....дык ... уже многие так и делают ... и я не могу сказать что они совсем уж неправы ... http://dreamco.ru/2006/05/19/daunshifting-strashnyiy-son-hr-spetsialistov |
| Неужели внуки D-50 будут принимать душ три раза в день??? O_o |
| какие тут интимные подробности пошли... |
| Doodie, вероятно, в светлом экономическом будущем потомки D-50 вообще круглые сутки не будут вылазить из ванны (или душевой капсулы) - 24/7 splendid shower life. а на работу вместо всех пускай китайцы ходят. |
| Murlena, ответить на Ваш вопрос лично я не могу, поскольку после 1991 г. и особенно в последние годы развития ни в какой из этих сфер не наблюдается, про обратный процесс в любой из указанной Вами областей могу аргументированно ответить в личном режиме, если захотите, т.к. большинство из посещающих этот ресурс эту точку зрения не поддержит, и не хочу в очередной раз прослыть отрицательным героем, коим на самом деле я не являюсь :) |
| А я вот и в свое "несовковое" детство ездила в лагерь, где туалеты деревянные с дырками... и не все даже хлоркой были засыпаны... А маме по роду проф.деятельности приходилось в 90-е - 2000-е за лето посещать не менее, чем по десятку лагерей и - о ужас! - во МНОГИХ из них, по ее словам, была именно такая ситуация. |
| tarantula, да, и будут специальные душевые пионэрские лагеря. Обширное меню, туалеты без дырок, где на полу нет хлорки, спец. баня два раза в неделю. |
| точно, это будет душ-туалет будущего - справляешь нужду, нужда мнговенно очищается по специальной технологии и тут же выпадает на тебя в виде роскошных ионизированных теплых капель. |
|
И, что характерно, на нагревание капель не расходуется никакой энергии - только тепло собственного организьма. Вот оно, нанобудущее! |
| а для поклонников голден шауэра можно даже сохранить или сымитировать оригинальный цвет! |
| tarantula, и запах :))) |
| подводный мир, вот как в продинутых западных странах готовятся к всемирному потопу, а мы опять отстаем :( |
| удовольствия будущего на любой вкус, цвет и запах.. |
| ах да, память ни к черту, ведь продвинутая московская золотая молодежь уже пытается продвинуть новый тренд в массы, в регионы... |
| мокрая позолоченная молодежь трендсеттит в глубинке? ну наконец-то. ведь нужно как-то выровнять хоть что-то в нашей стране. если это не финансовые потоки и средние заработки, то пусть хотя бы модная философия жизни. |
|
"в светлом экономическом будущем потомки D-50 вообще круглые сутки не будут вылазить из ванны (или душевой капсулы)" И в каждой будет по телевизору. Ибо, насколько мне помнится, у D-50 не укладывается в голове, что в 21-ом веке персональный телевизор есть не у каждого жителя планеты. |
| Телек обязательно! Чтобы заодно промывать мозги (и дебилизировать)! |
| телевизор будет имплантироваться в сетчатку глаза, даже обоих глаз, и на них будут транслироваться круглые сутки каналы, которые говорят только правду про божественный капиталистический строй и иногда, чтобы был контраст, будут вспоминать про Россию, в которой не каждый может позволить себе такой приятный и омолаживающий непрерывный душ.... |
| ...и совок, в котором все лабали в лаптях на балалайках и, видимо, запускали в космос деревянные летательные аппараты с хохломской росписью... |
| НБ: с удобствами "во дворе". Кстати!!! у Гагарина в ракете ДУША НЕ БЫЛО. Вот оно - темное-темное советское прошлое... |
|
Дорогие мои хохмачи. Неужели у нас разное понимание вот таких вот каментов В 70-х половина лагерей была с горячей водой и благоустроенными туалетами. Места надо было знать. Ну это ж ужос. А кому то повезло родится в семье у Абрамовича, а еще кому-то в семье министра Иванова, и теперь вдобавок к отсутствию финансовых проблем его сын может безнаказанно давить граждан своей страны. Фразочка "Места надо знать" из этой серии, правда? То есть быдло пусть знает свое место? Вы не замечаете соотвествий. Блин, как например коммунисты, будучи ярыми атеистами, поставили усыпальницу с трупом посреди Красной Площади, и считают это нормальным :-), и за них ДО СИХ ПОР голосуют в России. |
|
link 9.09.2011 9:14 |
| D-50, а вы бы за кого голосовали в современной России? |
|
КЖ, Честно, не знаю. Но точно не за комми. Эта партия запрещена в ряде стран вообще, также как и нацисткая. У нас выборам не придают сакрального смысла. Обычно перед выборами дается информацию, за кого ТЕБЕ ЛИЧНО выгодно голосовать в ДАННЫЙ момент. Например, в зависимости от дохода, количества членов семей и т.п.В общем неполитизированно все так, одним словом. |
| а наша Родина просто пока что встала на натуралистичный путь развития, у нас естественный отбор и закон природы... |
|
а у нас политики нет, D-50 не, ну честно, нет. выборов нет. есть шоу. парламента нет. есть куклы. свободы слова нет. есть свобода вести себя как животное. но самое главное - ни выборы, ни парламент, ни свободы, ни политики в целом нам не надо. просто не надо, и все. да, мы такие, Ваши сородичи. И что? |
|
link 9.09.2011 9:34 |
| ну вот - о душе поговорили, теперь о политике... |
| осталось о душЕ? =))) |
|
*вы бы за кого голосовали в современной России?* наверное, за Охлобыстина, он же империю восстановить обещает :) |
| либо против всех, либо остаться дома |
|
Секса нет душа нет политики нет Приходится заполнять пустое место духовностью ) |
| Murlena, удовлетворены ли Вы ответами? :) |
| OGur4ik, как она может удовлетвориться, если: 1) D-50 еще не вышел на проектную мощность; 2) Здесь не появился прямой антипод нашего D-50. |
|
|
| Мало вам вони из туалетов с дыркой в полу? |
|
link 9.09.2011 10:20 |
| D-50, вы удивитесь, но в России тоже, мне кажется, не предают сакрального смысла, и так все ясно))). У вас, как я понимаю, это в Англии? Для вас Россия - это уже чужая страна, а россияне - чужаки? |
| КЖ, не пытайтесь, не поймете, пока не попробуете. В смысле - эмиграцию |
| ну ладно, хрен с ним, да, D-50, у нас все плохо, но что нам делать? |
|
link 9.09.2011 10:42 |
|
*но что нам делать?* И кто виноват? |
|
да пофиг кто виноват, не надо зацикливаться на этом исконно русском вопросе :) 3 |
|
у нас тут все плохо! фу! бе-бе-бе! я побежал к ним. прибежал к ним, отдышлся: я к вам, а то у них там все плохо, фу, бе-бе-бе! залез в интернет: я уже у них. у вас там все плохо! фу! бе-бе-бе! гребаный детский сад, что это за разговоры? где оно, новообретенное конструктивное/позитивное западное мышление? давайте уже, приглашайте всех к себе, где хорошо, хотя бы по 5 человек в каждой комнате на первое время у себя разместите, пока гости нормальную работу там у вас не справят. так все нахрен и свалим отсюда потихоньку! |
|
link 9.09.2011 10:56 |
| Действительно не понять эммиграцию, пока не попробуешь. Просто уже надоело, у вас, у нас. А мы хорошие и цививилизованные, а вы плохие и колхозники. Заезженная пластинка. Вроде взрослые люди. Не могу понять. И не могу понять, почему нам настойчиво начинают объяснять, что нужно делать и как нужно жить. Вы же уехали. Возвращайтесь и сделайте. Теоретики, блин. Пишите президенту, организуйте партию и революцию, вот тогда можно слушать. А если боитесь, то тогда сидите и язык кое-куда засуньте. А на сайте сидят в своем большинстве обычные нормальные и думающие люди и залечивать здесь ничего не надо. Расстроили меня опять. |
| Он раньше понял, что фу! бе-бе-бе! И вам бестолочам рассказывает, делится. Когда поймете, и вы побежите. Только ноги все равно самим переставлять надо |
|
link 9.09.2011 11:00 |
|
tarantula + много (особенно про китайцев понравилось, тоже не люблю работать)))) Да, пригласите меня к себе. Обещаю себя очень хорошо вести, а не как обычно. Вы просто офигеете какой я политкорректный и внимательный. Пример с меня замучаетесь брать))) |
|
"Пишите президенту" "организуйте партию и революцию" КЖ, |
|
Считайте, что он иносказательно приглашает. Теперь вперед, за визой |
| Oo, т.е. вы готовы приютить небольшую русскую семью на первое время? Я же не могу с семьей вот так все бросить и полететь сломы голову, где мы там жить будем? |
|
"А если боитесь, то тогда сидите и язык кое-куда засуньте" Это вы о чьей реакции? Откуда у вас такой опыт? На западе нет нужды в подобной процедуре. |
|
link 9.09.2011 11:12 |
|
Serge1985, спасибо, что читаете мои посты, приятно удивлен))) понимаете, вежливые заграничные люди сначала должны честно предупредить президента, что скоро они приедут в Россию и все будет по-новому и по-правильному, что лучше правительству подобру-поздорову уехать, потому что они злые и жадные гномы. Потому что приедут настолько добрые, приятные и политкорректные люди, которые своими волшебными розовыми пистиками доброты расстреляют все неправильное, грязное и несправедливое, что дальше уже фантазии не хватает)))) |
|
Знаете, когда я приехал, меня вот так и приютили поляки. А в Аргентине кто при церкви обитал, кто комнатку на четырех делил, кто на куче песка спал. Время было такое, что радовались тому, что вырвались. Молодым этого уже не понять. |
| ну он пускай иносказательно. а вы, Oo, давайте уже, вышлите конкретные приглашения всем форумчанам. и они, хоть и бестолочи, но сразу начнут за визой ноги переставлять. |
|
Oo, Вы, пожалуйста, от прямого вопроса не уходите, Вы сможете? Вы, я так понимаю, в Канаде, Ваша локация меня вполне устраивает, но я не могу своих детей 5ти лет и 7ми месяцев отроду на куче песка пристраивать. |
|
tarantula Законы другого государства нужно знать. Приглашения работают только для близких родственников. Будь у меня достаточно места в доме, пригласил бы весь форум. Но со съемом жилья проблем не будет. |
| Оо, Вы всерьез предлагаете присутствующим здесь на форуме людям всё бросить и сломя голову вырваться из России, чтобы в Аргентине спать на песке или при церкви? |
| а чего снимать-то, у меня тут собственное есть |
|
link 9.09.2011 11:26 |
| Оо, приезжайте в любой город страны, проблем со съемом жилья тоже не будет) |
|
Segun Где вы увидели вое приглашение? Если серьезно, то эмиграция - сложный, болезненный, часто мучительный процесс. Каждый должен созреть и решить для себя сам. Очено многим он не под силу. Ведь не всем же везет, тогда приходится бороться. Но если бы у меня снова встал такой выбор, я бы ехал без колебаний. А оставшимся, тем кому трудно, я просто сочувствую. Мне страна все равно не безразлична. Корни еще не отмерли. |
| Корр. Мое |
|
Segun, Зачем передергивать? Ведь спор то из-за чего начался? 123 сказал, что в нынешней России жить лучше, чем в СССР. Так зачем из нее вырываться? А Оо уехал из СССР, так же как и я в 87. А это разные вещи. Многие здесь и не знают, каково было жить в 60-80 в Союзе, зато уверены, что замечательно. |
| Doodie, я поехал для начала сам. Когда выбрался из песка и смог оплатить , перевез семью. Всего добивался сам, на помощь не расчитывал. Но в мире много очень добрых людей. Как ни странно, поляки, итальянцы, филиппинцы, американцы помогли мне гораздо больше, чем земляки. |
|
может быть 123 пилиционэр, или в партии, кто его знает почему ему сейчас хорошо? может его в СССР в партию или милиционэры не брали? D-50, в чем проблема, 123ему ведь хорошо, и Вы приезжайте, пусть Вам тожехорошо будет, как всем нам, со съемом жилья проблем не будет, вода у нас дешевле, будете, не дожидаясь внуков, три раза в день мыться, ждать? |
| Oo, не хотите исправить ошибки земляков? |
|
link 9.09.2011 11:45 |
|
Друзья мои, кто не знает, Советский Союз давно развалился. Я родился в 80-м году и искренне бы желал своему ребенку такое же детство, какое было у меня. Как было во взрослой жизни, мне трудно судить. Вы бы еще в 1812 году уехали))), тогда бы за Наполеона поговорили))) |
|
D-50, так вот и я думаю, почему Oo пишет: "Он раньше понял, что фу! бе-бе-бе! И вам бестолочам рассказывает, делится. Когда поймете, и вы побежите." Вроде как СССР уж двадцать лет как нет, а желающих его попинать мертвого нисколько не уменьшается. Что характерно, много таких желающих за бугром, в то время как здесь, в России, люди в большинстве своем живут себе как живется, оставив СССР с его достоинствами и недостатками в прошлом. Но вот многим разного толка либералам здесь и эмигрантам там СССР до сих пор покоя не дает. Ребята, расслабьтесь, повторю - СССР уже двадцать лет как нет! |
| Союза юридически нет, а народы-то остались =) |
|
link 9.09.2011 11:48 |
| Segun, плюсую! |
| Doodie, по возможности исправляю. Но только помогаю. Основную работу человек должен делать сам. |
|
link 9.09.2011 11:57 |
|
Oo, при всем моем уважении... какая глубокая мысль в последнем предложении крайнего поста))) |
|
Segun Так ведь обращение к тем, кому плохо. Если вам хорошо - проигнорируюте спокойно Официальные масс-медиа горюют о миллионах покидающих Россию. Это о тех, которые поняли. |
| Классика жанра, копайте глубже. Там есть еще. |
|
link 9.09.2011 12:01 |
|
Oo, при всем моем уважении... не совсем так. Нельзя считать тех, кто остался, недолюдьми. А это в некоторых постах сквозит. И это бесит, потому что неправда. |
| Oo, тоже мелко копаете... Заходил сюда как-то skymaster, тот нас вообще от грязной порочной Земли к небесным учителям звал. |
|
Два последних поста не понял. Кто и кого считает недолюдьми? Чем я вас просквозил? Иронией по поводу ващей резкости и запальчивости? Перечитайте сначала себя. При чем здесь skymaster? |
|
Oo, еще раз, Ваши слова: "Он раньше понял, что фу! бе-бе-бе! И вам бестолочам рассказывает, делится. Когда поймете, и вы побежите." И судя по всему, Вы обращаетесь к бестолочам, которым, как Вы наверняка знаете, плохо, но которые сами этого не понимают, потому что бестолочи. И только поэтому до сих пор не побежали, как побежали умные. Таким образом, в Ваших словах Вы называете всех кто не побежал бестолочами. |
|
link 9.09.2011 12:13 |
|
Оо, Есть у нас учителя))) |
|
link 9.09.2011 12:13 |
| кто не пробовал наркотики - не модный, у кого было мало сексуальных партнеров - тот не активный, кто не ездит под 200 километров в час - тот медленный, кто не рубится на улице один с толпой хулиганов - тот трус, кто не уехал - тот ленивый и тупой?) |
|
Вы правы, слово "бестолочи" задевает. Я надеялся, вы почуствуете юмористическую окраску. Извините все, кого задело. На сегодня прощаюсь. Дела. |
| ну вот, не дали мне привести пример с кавказцами, которые своих родных и не совсем родных и совсем не родных сюда привозят, сами находят им жилье, помогают деньгами на первых порах, находят им работу, и помогают со всеми проблемами. Далеко русским до них, хоть куда они уедут и хоть сколько проживут там, потому что все надо самим, иначе не русский ты... |
| А действительно, за кого бы голосовали в России те, кто понял и уехал? Что не за коммунистов - это понятно. Ясно также, что не за единоросов. Неужели за Чубайса и Немцова? Других, вроде как, и не осталось. Яблоко совсем сдохло... |
| надо, чтоб Oo создал (а небось уже есть. тогда укрепил!) диаспору русских канадцев и выступил с инициативой её укомплектования всеми желающими россиянами - это можно пролоббировать на самом верху. можно лдаже покопаться в истории как следует и вытащить на порицание мировой общественности какие-нибудь вопиющие факты (ну или тщательно сфабриковать исторические документы) жестокого угнетения россиян канадцами (по аналогии с возмездием за немецко-еврейские репрессии). вот это будет поступок. его внесут в википедию. и мы как из пистолета беспрепятственно побежим под кленово-листочную эгиду, а FUUUU и Бебебе со временем станет благополучной китайской провинцией. и всем будет хорошо, по обе стороны океана. |
|
Doodie... вы меня не так поняли ... "лучше" и "хорошо" это воще разные абсолютно разные понятия ... я бы даже сказал - философские категории ... ... ннну мне, допустим, сейчас лучше, а, допустим, Горбачеву - сейчас хуже, чем при советской власти ... ну и что? ...лучше всех сейчас, безусловно Ельцину, но он, как мудрый человек, выбрал абсолютно беспроигрышный вариант и не прогадал ... :))) |
|
...ндяааа... стабильность - залог процветания ... ну ничё не меняется в этой стране... Некрасов Н.А. / Кому на Руси жить хорошо В каком году — рассчитывай, ........................................................ |
|
Нас зажгли идей пожаром Ленин, Сталин и Хрущев. Если ты гореть не будешь, Если я гореть не буду, То гори оно, пожалуй, Синим пламенем, вааще! Брежнев был и был Андропов, Все путем, щас правит Путин Кто урвал, а кто прохлопал Дураков полно как прежде, В мавзолее спит Ульянов, Путин потен от натуги, А куда ведет дорога Если надо – круто сразу Наконец свобода слова, Нам бы снова взять на мушку |
| да, не меняется. потому что Оо сидит там у себя сложа руки, вместо того, чтоб пойти и договориться с диаспорой насчет переброса пацанов через границу, а 123 с двоеточием с головой ударился в перепост русской классики, как будто её никто в школе не читал. поболтали и разошлись. |
|
... да я всю жизнь пытался понять ... за каким херОм мы в школе проходили "Горе от ума", "Кому на Руси жить хорошо", "Историю города Глупова", "Путешествие из Петербурга в Москву" ... это же сплошная антисоветчина в чистом виде. А Радищев - это воще расист, потому что "чудовище ебло, озорно, стозевно и лайя" - это, если вдуматься, и есть великий русский народ ... а вовсе не царские чиновники... Вот теперь начинаю понимать - это нас в якобы шутливой форме ... какбе осуждая ...ну, так, ненавязчиво, приучали к будущей взрослой жизни ... иносказательно давали установку на будущее ... помогали разобраться что к чему, кто в стране главный, а кто - так себе ... "перхоть" (как сейчас в правительстве "народные избранники" называют между собой пресловутый "народ") dixi... :) |
|
123, вот скажите: Вы в армии тоже из опущенных рабов в деды путь прошли, и над салагами потом измывались, и домой вернулись подонком? |
|
....:))).... нееее ...я в армии не служил ... спсибо за внимание... а вам, судя по вопросу, довелось?... |
|
...судя по возрасту, да... но вы не расстраивайтесь ... это не ваша вина ... хорошо что сейчас вроде переходят на профессиональную армию... есть надежда, что этот механизм воспроизводства подонков будет окончательно демонтирован ... |
|
...неееее, я бы вас конечно обманул, если бы сказал что армия в Советском Союзе, служила только для того, что воспитывать опору режима... были и другие задачи.. Например, в конце 70-х, в стране сложилась совершенно нетерпимая для бандитской верхушки ситуация, когда страна, оказалась в стороне от мирового наркотрафика. Изоляция страны, служившая укреплению режима, здесь сыграла отрицательную роль, лишая советскую молодежь доступа к наркотикам. Было принято решение использовать американский опыт - когда в результате войны во Вьетнаме, огромное количество американской молодежи приобщилось к потреблению дури. В 1979 году советский союз ввел войска в Афганистан. Одновременно решались две важнейшие задачи - создание рынка потребления наркоты (молодые солдаты) и каналов доставки (гробы, набитые наркотиками, и переправляемые через границу военной авицией) Обе задачи, как мы знаем, были успешно решены, после чего армия победоносно смоталась из Афганистана. |
|
да, у нас такая Родина, и нам не всем нравится, но, видимо, недостаточно, чтобы она для нас закончилась... http://www.youtube.com/watch?v=q5Kvv_nG-3Q |
| ... дык ... я ж и говорю ... всё нормалёк!... ничего особенного не происходит ... а тем, кто любит колбасу, политику (и переводы!!!), лучше не знать, как они делаются...;))) |
|
а вы чё, подумали что я кого-то осуждаю? гыы... ну подонки и подонки ... ну бандиты и бандиты ... ну правят и правят ... какая разница? ... видели африканскую саванну - какое буйство жизни - самое большое количество диких животны в мире - в Африке, в саванне. А знаете, кто там правит в животном мире? Да всякая сволочь, можно сказать, те же бандиты: львы, шакалы, гиены ... ни хрена полезного не делают, ничего не производят, только мочат бедных парнокопытных в сортире и без ... ... и ничего .. Будда говорит поэтому: «Знайте, что все существующее возникает из причин и условий и что оно во всех отношениях непостоянно». «Что кажется вечным — исчезнет; высокое снизится; где есть встреча—будет и разлука; все, что рождено, умрет». |
|
123: Да, довелось. А то, что Вам не довелось, показывает Ваша сентенция. Смешно вот так обобщать, не испробовав лично. Вы же не знаете, что и совсем по-другому бывало. Я служил честно, себя в обиду не давал и других не трогал. Подонком я вернулся или нет - не мне судить. Но есть, как минимум, десяток человек, которые считают, что нет :) |
|
Ну, Dmitry G, вы и даете!... :))) ... да я вовсе не имел в виду Вас лично ... существует закон больших чисел ... квантовые законы, наконец ... преступность общественной системы в целом совсем не обязательно означает, что КАЖДЫЙ член общества - негодяй ... так не бывает ... да это и не нужно организаторам тотально негодяйства ... они прекрасно понимают, что всегда существуют отклонения в ту или иную сторону ... вовсе не обязательно, чтобы все были активными подонками - вполне достаточно, чтобы все помалкивали и не возникали, когда у них на глазах творятся подлости ... вот и дожили до того, что обычные порядочные люди, вроде академика Сахарова - никакие не герои, а просто, активные неподонки, возведены уже чуть ли не в ранг святых на общем фоне честно отслуживших свое в армии, в Афганистане, в Чечне и т.п.................................................... |
| ... и вообще - все идет как полагается - энтропия побеждает, хаос торжествует ... ..:))) |
| Стороннее наблюдение устника (please indulge): интересно, как тут, на форуме (в большинстве) переводчиков развивается эта и другие подобные темы. Впечатление черно-белого - либо плохо, либо хорошо. Так и у многих переводчиков, очень плохо с переводом (на английский) нюансов и тонкостей. Английский по словарному запасу гораздо шире русского и, особенно начинающие, переводчики лепят сразу категоричные кальки, когда есть масса более нейтральных слов, но они не в активе и переводчик загоняет себя в угол. Любопытная проявляется параллельность. Я вижу куда она ведет, но еще не готов делать выводы. |
|
в том то и дело ... высказанная мысль уже звучит не так как была задумана... само устройство языка мешает .. что означает фраза "я его не люблю"? ... первым делом возникает вопрос - "за что?" ... "что он такого тебе сделал?" ... а мне допустим на него просто наплевать .. думал одно - а сказал совсем другое ... так и здесь - я говорю "бандитский режим!!!" ... сразу возникает впечателение, что это плохо ... очень плохо ... никуда не годится ... Родина в опасности!... ...на самом деле деле не все так однозначно. А как же, например, кровавый режим Пиночета? Если задуматься, что лучше - прочный, основательный, непоколебимый бандитский режим или кровавая междусобица, когда все отдельно взятые замечательные, культурные, кроткие как голуби и обаятельные люди выпускают друг другу кишки, только из-за разного цвета кожи, взглядов на религию, акцента и т.п. .... то я думаю многие будут не так категоричны в своем суждении... |
|
Английский по словарному запасу гораздо шире русского Требую источников и составных частей. Хотя бы трёх :)) |
|
link 10.09.2011 23:28 |
|
Дмитрий, что шире русского, я тоже не очень понял! Тоже хотелось бы примеров. Похоже, опять вам плюсую! |
|
Подсчитано, что в английском языке 2 миллиона слов, из них 1 миллион - научно-технические термины. В самом толстом словаре русского языка около 300 тыс. слов. Вот и крутимся... |
 GLM/Google vs OED and Webster’s 3rd + AHD (4th Edition) Number of Words in the English Language: 1,010,649.7 в Большом академическом словаре зафиксировано 131 257 слов. Число, как видим, точное, но ответ на поставленный вопрос не то чтобы неточен или неполон - он условен и требует слишком многих оговорок, которые способны на порядок изменить это число. |
|
оговорок, которые способны на порядок изменить это число. Интересно, каких? Т.е., будет 1 312 570? |
|
http://magazines.russ.ru/znamia/2006/1/ep13.html Очень грустно, но не удивительно. По какой-бы теме я не работал - постоянно сталкиваешься с тем, что в русском одно слово а в английском несколько и не синонимы. |
|
link 11.09.2011 12:48 |
| ну вот, а вы говорите Гугль всех победит))) Хотел бы я посмотреть, как он завьюжит, когда в русском одно слово, а в "английском несколько и не синонимы"))) |
| похоже надо еще кофе сварить, а то ничего не понял. |
|
link 11.09.2011 13:10 |
|
после того, как попьете кофе... Вы знаете как работает логика Гугля? Хотелось бы увидеть на примерах русского языка и английского. |
| я разве что-нибудь сказал про Гугль? Dmitry G упомянул оговорки. Вот там, по моей ссылке, у Эпштейна, про них и написано, только они в другую сторону направлены. БАС, в отличие от Даля включает массу уменьшительно-ласкательных. И те гордые 130 тысяч в БАС, надо бы поделить в несколько раз. Или богатство великого и могучего ограничено матом и словами с -очк? |
|
link 11.09.2011 13:23 |
|
я не зря написал "завьюжит", как вы понимаете))), вот как это было переведено гуглем) ну вот, а вы говорите Гугль всех победит))) Хотел бы я посмотреть, как он завьюжит, когда в русском одно слово, а в "английском несколько и не синонимы"))) Well, as you say, Google will win all))) I wish I could see how he zavyuzhit, when the Russian one word, as in "English and some are not synonymous"))) |
|
link 11.09.2011 13:25 |
| Так нехирово могут рынки упасть, если финансовую информацию будет переводить Гуголь, а еще лучше контракты, там вообще песня))) |
| will win all? - это что означает? |
|
link 11.09.2011 13:40 |
|
Ну а я-то откуда знаю, лучше спросить у гугла))), я просто прогнал свою фразу через интернет-переводчик)))) А вот, как это было переведено, только не спрашивайте меня, что это значит)))) |
|
link 11.09.2011 13:41 |
|
Похоже, я ехал на машине, только давайте без вопросов))) а вот перевод) Looks like I was driving, let's just no question))) |
|
link 11.09.2011 13:43 |
| Смайлики особенно бесят, согласны?)) |
|
link 11.09.2011 13:44 |
|
Так нехирово могут рынки упасть, если финансовую информацию будет переводить Гуголь, а еще лучше контракты, там вообще песня))) а вот перевод: |
|
link 11.09.2011 13:46 |
|
последнее предложение особенно впечатляет, в России при заключении более хороших контрактов поют песни))) Вы поете?))) |
|
link 11.09.2011 13:49 |
|
Guys, do not feed Google have never let suffering))) Regards, classics of the genre Ребята, не кормите гугль вообще никогда, пусть мучается))) |
|
***"в английском несколько и не синонимы"*** мдяяя... в великом и могучем частенько бывает наоборот, например, богатое смыслами слово "писать" ... |
| ... или "Что здесь написано?" |
|
"подписанный" документ - каково, а? Страшно в руки взять...:) |
| всем огромное спасибо! Анкетку заполните? |
|
link 17.09.2011 19:50 |
| пустой топик |
|
Buick Добрый день. как с вами в "личном режиме" связаться? |
| По сабжу: "Ja, die hele fokken land is in sy moer!" (c) Koos Kombuis (кажется) :) |

|
|
link 20.09.2011 1:06 |
|
«Пишите президенту, организуйте партию и революцию, вот тогда можно слушать...» Поржал от души. А чё так хило — президенту? Может, лучше сразу этому ^, который на картинке? Низко берёте. |
|
Дружок... Этимологический словарь русского языка поможет тебе найти много интересной информации о совершенно привычных тебе словах и выражениях... Вдумайся в этимологию слова "писать", и ты осознаешь, что "написать [президенту]" и "обоссаться [от страха]" - это в сознании носителя русского языка два практически неразличимых понятия... |
|
123: ну как видишь, конкретные пацаны, как сказали, так и сделали с "выборами" президента :-). А чего можно ожидать он наследников комми. Хотя они конечно в отличие от банды Ленина уже не хотят мировой революции, потому, как хто ж им машины да айфоны делать будет. А вот отцы-основатели не стеснялись. Кстати, у Бунича прочитал, отчего произошло выражение "гидра контрреволюции". Так отважные братишки матросики называли связанных колючей проволокой 3-4 офицеров, которых они топили в море. Блин, не понимаю до сих пор людей, оправдывающих бандитский режим. |
| D-50 ... вы это все Классике жанра расскажите - это он у нас большой любитель СССР ... после первой не закусывает ... а кста ... тока что в голову пришло - почему такое странное название - СССР?... да это же не что иное, как произнесенное задом наперед, через жопу, РоСССия ... почему через жопу?... а у нас всё так делают ... (с) |
| Ахинею какую-то пуржат туточки англозассикатели, почитать книги на русском не мешало б и подсчитать квантитативное его величие в словесах. |
| ...ндаааа... французская революция ... английская ... русская ... ленин, сталин, гилер ... полпот ...а до них ацтеки, майя ... что-то у них слишком много общего - все эти человеческие жертвоприношения ... нну разумеется, повод каждый раз придумывается убедительный - борьба с контрреволюцией, то да сё ... но смысл один и тот же - человеческие жертвоприношения ... всё-таки очень сильно пахнет пришельцами ... |
| Кирюха тут уже скакал, экскременты свои роняя из эректуса. Да, и "Знамена" какие-то и статистику чужой расхристанной сережей брином души втемяшивали на ресурс линканув. Смешно. Сонм интеллектуальной шмары от Брайтона или Лексингтон-аве. |
|
Moto ... специально для Вашего эректуса... пусть порадуется...
Трупы заложников, найденные в херсонской ЧК в подвале дома Тюльпанова. |
| Дзянкую за картину. Да ЧК - это, как тут молва грит, мой орган. Неубедительно. |
|
> Английский по словарному запасу гораздо шире русского Кир, ну что? Кишка тонка мотивировать, а? |
| Moto, простите мне мое любопытство, но на каком языке вы все время разговариваете? |
| на пиджине, а что? |
| да нет, это не пиджин, пиджин легко понять, для того он и придуман |
| "Если тебе не нравится, как я излагаю, Купи себе у бога копирайт на русский язык" (БоГ) |
| вы под эндогенными веществами? |
| Нет, я экологически чист. |
| Мото, а надо? Как насчет просто сравнить OED (or Webster's third) и Большой академический? 600/450 тыс и 150 тыс соответственно. И это если упереться рогом и считать, что коробка и коробочка - два разных слова. Оставьте, право. |
|
Кирилл, сравнение - хороший подход. Самый верный. Только вот метод пополнения у словников разный. Если брать в расчет, то как вносится - да не шутки ради, а правды для - вся шелуха, в вебстеров словарь (уж видел я это много раз, перечитывая талмудически толстенный этот труд), то и русский язык будет как УГ, ведь он же хил и угрюм, всего-то БАС 150 тыщ собрал. У меня так стойко ощущается, что все в ШША очень умные и хорошие люди, только вот в славистике совершенные профаны. |
|
= У меня так стойко ощущается, что все в ШША очень умные и хорошие люди, только вот в славистике совершенные профаны.= Чем теплее климат, тем больше гуманитариев, и соответственно словесников. |
|
Меня учили в инсте одной простой истине: спасибо Н.А. Николиной и покойному А.Ф.Лосеву - язык в словари должен заносится только литературным, без привязки к его существующим вариациям - слэнг, профессионализмы, диалектизмы и тэ дэ и пыр. А это фиксируют западные словари, никакой кодификации. Ну и литература со времени Беовульфа у них куцая, как ни у кого другого. Про ШША я вообще молчу, кроме Витмена, По и Мэлвила нет никого )))) |
| Да, конечно же, все для показухи. Бас-то он исключительно литературный и без вариаций: "сирота, сиротка, сиротинка, сиротинушка" и все разные слова. Но общее направление аргументации в сторону патриотически настроенного растяжения электронной крайней плоти а ля Фоменко забавно и любопытно. Дерзайте на здоровье. Только вот и английский и английскую литературу похоже надо сильно подтягивать. |
| (застенчиво) ... а вот мне очччень нравится Джек Лондон ... имхо - гениальный писатель, по сравнению которым Достоевский просто отстой ... полное говно .... также как и Эдгар По ... дешевка ... |
|
Кирюха, надо изучать азы хотя бы типа "лингвистики" и знать о формо-/словообразующих аффиксальных морфемах хотя бы на уровне церковно-приходской школы. Ржунимагу. |
|
вебстеровским миллионом всё равно никто и близко не владеет :) а богатство и широта они не только в количестве лексем. |
|
123: о предпочтениях в иной ситуации, ждем кирюшкиного компетентного мнения, если оно выперднется из его эректуса спермотозойдом. |
|
...глубже надо смотреть ... словарный запас - это фигня ... будущее за иероглифами ...кстати, пользуюсь случаем заметить, что будущее - это хорошо забытое прошлое .... хотите знать, что с вами будет - изучайте |
|
link 2.10.2011 20:53 |
|
123: я искренне считаю, что вы гений. Свободное обращение к классике не очень бьется с нелогичным модерированием. Как объяснить, что человек не просто линия и общепринятая идеология, а гораздо сложнее? Будущего никто не видит, если видит, то делает. |
| КЖ, с прошедшим! |
|
link 2.10.2011 21:03 |
| Да ну нафиг, кололи антибиотики прямо в мою хитрую попу))). Кто возник? Чего говорят?)))) |
| В последнее время, Андрей, мне трудно тебя понять. |
|
link 2.10.2011 21:07 |
| Очень сильно болел, но все равно был онлайн, играл в карты))) Это другое, но мозги здорово разгружает. |
|
link 2.10.2011 21:10 |
| Мото, я тебя не осуждаю))) Давай напиши мне в личку свой скайп. Или я тебе свой. Чего ты не понимаешь, Моto?) Давай спокойнее, все будет нормально. |
|
link 2.10.2011 21:13 |
| Ну кажется, понял твое беспокойство))) Ну когда очень сильно болеешь и врачи бояться, что будет пневмония, то начинают очень сильно лечить. |
| Я тут не умею. Мне лучше дропни эй лайн на moto@beeline.blackberry.com |
|
link 2.10.2011 21:56 |
| Нормально с Мото поговорили. |
|
link 2.10.2011 22:39 |
| Да ну нафиг, лучше наверху) Это я про ветку) |
|
link 2.10.2011 22:41 |
| или сверху?) |
| Неисправимый жгун. (Шютка) |
|
link 2.10.2011 22:46 |
| Мото, вьемся))) Взовьемся?))) |
|
link 2.10.2011 22:51 |
| пора прикрывать) Лучше сверху))) |
|
link 2.10.2011 23:31 |
| всегда лучше, чтобы сверху) |
|
Кирилл, "Выходи! Выходи, подлый трус!" |
|
link 3.10.2011 6:14 |
| а о чем ветка-то? |
| О качестве vs. количестве |
 Введение Буддизм - самая древняя из трех мировых религий. Христианство моложе его на пять, а ислам - на целых двенадцать столетий. Возникнув более двух с половиной тысяч лет назад в Индии как религиозно-философское учение, буддизм создал уникальную по масштабности и разнообразную каноническую литературу, и многочисленные религиозные институты. Широкая интерпретация философских положений буддизма содействовала его симбиозу, ассимиляции и компромиссу с различными местными культурами, религиями, идеологиями, что позволило ему проникнуть во все сферы общественной жизни, начиная от религиозной практики и искусства, и кончая политическими и экономическими теориями. В зависимости от угла зрения буддизм можно рассматривать и как религию, и как философию, и как идеологию, и как культурный комплекс, и как образ жизни. Философия буддизма глубока и оригинальна, причем интеллектуальный потенциал философии высок даже на фоне поисков мыслителей Упанишад. Не случайно выдающийся русский востоковед О.О. Розенберг говорил, что буддизм - "ключ к восточной душе", подчеркивая тем самым, что без него невозможно понять особенности культур и мышления многих восточных народов. Буддизм - система, начатая Буддой - Гаутама, скорее метапсихология, чем харизматическая религия, она менее подвержена воображению и символизму, нежели христианство. Это, по существу, руководство или самоучитель правильного видения и очищения от иллюзорных идей о нашем мире. Сегодня буддизм делится на две ветви: северную и южную. Вторая является "мозгом Будды" или "Доктриной глаза" - эзотерической философией для внешнего мира, а первая - "сердцем Будды", то есть внутренней доктриной учения. Различие между ними такое же, как между горами и равниной, льдом и пламенем, интеллектом и чувственностью. Оно сродни (хотя, возможно, и спорно) разнице между протестантством и католицизмом. Северная доктрина, распространенная в Гималаях и высокогорных плато, более холодная, чистая, аскетическая и интеллектуальная. Южная возникла в более жарких и населенных регионах с меркантильными чаяниями и переполненными народом улицами, а потому имеет более мирской подход. Ни одна из ветвей не является главенствующей. Подобно Ян и Инь - это две стороны одной медали. В настоящее время буддизм является одной из основных и самых распространенных мировых религий. Легенда о возникновении Буддизма, или Будда - "разбуженный" принц. Пусть будет рубище одеждой мне, Пусть буду жить одним я подаяньем, В пещерах или джунглях пребывать… И отреченьем от всего найду Я верный путь к спасению Вселенной. Эдвин Арнольд. «Свет Азии» Основатель буддизма - реальная историческая личность. Во всяком случае, так считает большинство ученых, занимающихся историей этой религии, на основании сохранившихся до наших дней письменных источников. И эти тексты, и основанные на них научные исследования, фольклорные жанры и художественные произведения, говоря об основателе буддизма, называют его разными именами: Сиддхартха, Гаутама, Шакьямуни, Будда, Татхагата, Джина, Бхагаван и др. Означают эти имена следующее: Сиддхартха - личное имя, Гаутама - имя рода, Шакьямуни - "мудрец из племени шаков (или шакья)", Будда - "просветленный", Татхагата - "так приходящий и так уходящий" , Джина - "победитель", Бхагаван - "торжествующий". Самое распространенное из них имя - эпитет Будда, от которого пошло название всей религии. Будда - это слово происходит от санскритского корня budh - "постигать, осознавать, пробуждаться, излечивать сознание". Оно означает духовно пробудившихся существ, освободившихся от "смерти бытия". "Просветленные" находятся в Нирване и не нуждаются в окружающем мире, но могут пожелать вновь родится, чтобы помочь человечеству. Человек, неточно называемый Буддой, - один из многих будд. В настоящее время известно пять биографий Будды: "Махавасту", написанная во втором веке нашей эры; "Лалитавистара" (2-3 века нашей эры); "Буддхачарита", изложенная одним из буддийских философов, поэтом Ашвагхошей (1-2 века нашей эры); "Ниданакатха" (примерно 1 век нашей эры); "Абхинишкраманасутра", вышедшая из-под пера буддийского схоласта Дхармагупты. Основные разногласия возникают при определении времени жизни Гаутамы: эта датировка колеблется от IX до III веков до нашей эры. Согласно официальному буддийскому летоисчислению, Гаутама родился в 623 году и умер в 544 до нашей эры, но большинство исследователей считают датой его рождения 564 год, а смерти - 483 год до нашей эры. Спросите буддиста о том, как возникла религия, которой он следует, и вы получите ответ, что болеё двух с половиной тысяч лет назад её возвестил людям Шакьямуни (отшельник из племени шакьев). В любой посвященной буддизму книге вы найдете основанный на религиозной традиции рассказ о жизни странствующего проповедника Сиддхартхи, прозванного Шакьямуни и назвавшего себя Буддой (санскритское -- "buddha"), что означает "просветленный высшим знанием", "осененный истиной". После бесконечного множества перерождений, накапливая в каждом из них добродетели, Будда явился на землю, для того чтобы выполнить спасительную миссию -- указать живым существам избавление от страданий. Он избрал для своего воплощения образ царевича Сиддхартхи из знатного рода Готама (отсюда его родовое имя -- Гаутама). Род этот входил в племя шакьев, жившее за 500-600 лет до н.э. в долине Ганга, в среднем его течении. Как и боги других религий, Будда не мог появиться на земле, подобно другим людям. Мать Сиддхартхи -- жена правителя шакьев Майя -- увидела однажды во сне, что к ней в бок вошел белый слон. Через положенное время она родила младенца, покинувшего её тело также необычным путем -- через подмышку. Немедленно изданный им клич услышали все боги Вселенной и возрадовались приходу того, кому удастся пресечь страдания бытия. Мудрец Асита предрек новорожденному свершение великого религиозного подвига. Младенца назвали Сиддхартхой, что значит "выполнивший свое назначение". Он родился около 563 г. до Р.Х. близ Гималаев, на границе Непала. Повелитель шакьев Шуддходана не желал сыну религиозной карьеры. Его рано стал тревожить характер ребенка. Еще мальчиком Сиддхарта любил предаваться смутным грезам и мечтам; отдыхая в тени деревьев, он погружался в глубокие созерцания, переживая моменты необыкновенных просветлений. Он окружил ребенка роскошью, скрывая от него все теневые стороны жизни, дал ему блестящее светское воспитание, женил на прелестной девушке, которая вскоре подарила ему сына. Шуддходана решил любым способом отвлечь сына от его мыслей и настроений. Но возможно ли спрятать жизнь от юноши, который с ранних лет задумывается над её тайнами, можно ли скрыть от него ту печальную истину, что все вокруг полно страдания? Но однажды во время прогулки по городу, со своим возницей Чанной, Гаутама встретил покрытого язвами больного, сгорбленного годами дряхлого старика, погребальную процессию и погруженного в раздумья аскета. Так он узнал о неизбежных для живых существ страданиях. Его охватило отвращение ко всему, ничто не могло возвратить безмятежности детства. Мир, жизнь оказались неприемлемыми. Это было восстание против самих основ мироздания, мятеж надисторического значения. И в ту же ночь он тайком покинул дворец, чтобы в отшельничестве искать путь, ведущий к избавлению от страданий. В то время ему шел тридцатый год. Изучив философские системы и поняв, что они не могут разрешить мучившие его проблемы, Гаутама захотел обратиться к йогам-практикам. Затем, покинув своих наставников-йогов, Гаутама уединился в джунглях для того, чтобы самому бесстрашно ринуться по пути самоистязания. И вот в один прекрасный день, когда после многочасовой неподвижности он пытался подняться, ноги, к ужасу наблюдавших эту сцену друзей, отказались его держать, и Гаутама замертво свалился на землю. Все решили, что это конец, но подвижник был просто в глубоком обмороке от истощения. Отныне он решил отказаться от бесплодного самоистязания. Счастливый случай помог ему. Дочь одного пастуха, сжалившись над аскетом, принесла ему рисовой похлебки. Гаутама принял её подаяние и впервые за долгое время утолил свой голод. Весь день он отдыхал в тени цветущих деревьев на берегу реки, а когда солнце склонилось к западу, устроил себе ложе среди корней огромного баньяна и остался там на ночь. И тут произошло самое значительное событие в жизни Гаутамы. Годы раздумий и мук, искания и самоотречения, весь его внутренний опыт, чрезвычайно изощривший и утончивший душу, -- все это как бы собралось воедино и дало плод. Явилось долгожданное "просветление". Внезапно Гаутама с необыкновенной ясностью увидел всю свою жизнь и почувствовал всеобщую связь между людьми, между человечеством и незримым миром. Вся Вселенная как бы предстала перед его взором. И всюду он видел быстротечность, текучесть, нигде не было покоя, все уносилось в неведомую даль, все в мире было сцеплено, одно происходило от другого. Таинственный сверхчеловеческий порыв уничтожал и вновь возрождал существа. Вот он -- "строитель дома"! Это Тришна -- жажда жизни, жажда бытия. Это она возмущает мировой покой. Сиддхартхе казалось, что он как бы присутствует при том, как Тришна вновь и вновь ведет к бытию ушедшее от него. Теперь он знает с кем надо бороться, чтобы обрести избавление от этого страшного мира, полного плача, боли, скорби. Отныне он стал Буддой Просветленным..." Это случилось на берегу речки Наиранджаны, в местечке Урувилва, в теперешней БодхГае (штат Бихар). Сидя под священным деревом бодхи он познал "четыре благородные истины". Демон зла, бог смерти Мара, пытался заставить "просветленного" отказаться от возвещения людям пути спасения. Он запугивал его страшными бурями, своим грозным воинством, посылал своих прекрасных дочерей, чтобы соблазнить его радостями жизни. Но Будда победил всё, в том числе и свои сомнения, и вскоре произнес в "Оленьем парке", недалеко от Варанаси первую проповедь, ставшую основой вероучения буддизма. Её слушали пять его будущих учеников и два оленя. В ней он кратко сформулировал главнейшие положения новой религии. После провозглашения "четырех благородных истин", окруженный все умножающимися учениками -- последователями, Будда ходил сорок лет по городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. Умер Будда, согласно легенде, в 80 лет в Кушинагаре, который, как полагают, соответствует нынешней Касие, расположенной в восточной части штата Уттар Прадеш. Он лег под деревом бодхи в "позу льва" (на правом боку, правая рука под головой, левая вытянута вдоль выпрямленных ног) и обратился к собравшимся около него монахам и мирянам со следующими словами: "Теперь, о монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что всё созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению". Уход Будды их жизни буддисты называют "mahaparinirvana" -- великим переходом в нирвану. Эта дата почитается так же, как и момент рождения Будды и момент "прозрения", поэтому её называют "трижды святым днем". В представлении буддистов Гаутама - это архетип многих предыдущих будд, воплотивший в себе черты бесчисленных индивидуальностей и эволюционировавший в течение многих миллионов лет в борьбе с силами зла. Согласно этому учению будды появлялись с незапамятных времен. Одни версии утверждают, что до Гаутамы жили шесть будд. В других версиях сообщается о существовании 24 поколений будд, в третьих - о тысяче поколений будд. Благодаря непрерывной цепи перерождений тело Будды-Гаутамы приобрело необычные свойства, скрытые под внешней оболочкой человеческого существа. Согласно поверьям, это "духовное тело" могли видеть только истинно верующие: "великолепное тело" Будды было около пяти с половиной метров высотой, золотистого цвета, от него исходили лучи, освещая огромные пространства. Такое представление о "духовном теле" Будды является отражением древнеиндийских представлений о том, что тела великих людей излучают свет. Такова реальная и мифологическая биография основателя буддизма. Провозглашенное им учение стало основой, на которой со временем было воздвигнуто достаточно внушительное здание мировой религии. 1. Когда и где зародился буддизм? Сами буддисты ведут отсчёт времени существования своей религии от кончины Будды, однако среди них нет единого мнения о годах его жизни. Согласно традиции наиболее старой буддийской школы - тхеравады, Будда жил с 624 по 544 г. до н.э. В соответствии с этой датой в 1956 г. отмечалось 2500-летие буддизма. По научной версии, принимающей во внимание греческие свидетельства о дате коронации знаменитого индийского царя Ашоки, время жизни основоположника буддизма - с 566 по 486 г. до н.э. В некоторых направлениях буддизма придерживаются более поздних дат: 488 -368 гг. до н.э. В настоящее время исследователи пересматривают даты правления Ашоки и в связи с этим даты жизни Будды. Родина буддизма - Индия (точнее, долина Ганги - одна из наиболее экономически развитых частей страны). Самой влиятельной религией Древней Индии был брахманизм. Его культовая практика состояла в основном из жертвоприношений многочисленным богам и сложных ритуалов, сопровождавших практически любое событие. Общество делилось на варны (сословия): брахманов (высшее сословие духовных наставников и жрецов), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев) и шудр (обслуживавших все остальные сословия). Буддизм с момента своего возникновения отрицал действенность жертвоприношения и не принимал деления на варны, рассматривая общество как состоящее из двух категорий: высшей, куда входили брахманы, кшатрии и гахапати (домохозяева - люди, владевшие земельной и прочей собственностью), и низшей - она включала людей, обслуживавших господствующие слои. На территории Индии в VI-III вв. до н.э. существовало множество небольших государств. В Северо-Восточной Индии, где проходила деятельность Будды, их было 16. По своему общественно-политическому устройству это были либо племенные республики, либо монархии. Они враждовали между собой, захватывали территории друг друга, и уже к концу жизни Будды многие из них были поглощены набиравшими мощь государствами Магадха и Кошала. В те времена появилось множество аскетов - людей, не имеющих собственности и живущих подаянием. Именно среди аскетов-отшельников и зарождались новые религии - буддизм, джайнизм и другие учения, не признававшие ритуалов брахманов, видевшие смысл не в привязанности к вещам, месту, людям, а в сосредоточении целиком на внутренней жизни человека. Не случайно представителей этих новых учений называли шраманами («шрамана» означает «совершающий духовное усилие»). Буддизм впервые обратился к человеку не как к представителю какого-либо сословия, клана, племени или определённого пола, а как к личности (в отличие от последователей брахманизма Будда считал, что женщины наравне с мужчинами способны достичь высшего духовного совершенства). Для буддизма в человеке важны были только личные заслуги. Так, словом «брахман» Будда называет любого благородного и мудрого человека независимо от его происхождения. Вот что говорится по этому поводу в одном из классических сочинений раннего буддизма - «Дхаммападе»: «Я не называю человека брахманом только за его рождение или за его мать. Я называю брахманом того, кто свободен от привязанности и лишён благ. Я называю брахманом того, кто отрешился от мира и сбросил ношу, кто даже в этом мире знает уничтожение своего страдания. Я называю брахманом того, кто среди взволнованных остаётся невзволнованным, среди поднимающих палку - спокойным, среди привязанных к миру - свободным от привязанностей. Я называю брахманом того, кто говорит правдивую речь, поучительную, без резкостей, никого не обижающую. Я называю брахманом того, кто знает своё прежнее существование и видит небо и преисподнюю; кто, будучи мудрецом, исполненным совершенного знания, достиг уничтожения рождения; кто совершил всё, что возможно совершить». 2. Будда реальный и Будда из легенд. В биографии Будды отражена судьба реального человека в обрамлении мифов и легенд, со временем почти полностью оттеснивших историческую фигуру основателя буддизма. Более 25 веков назад в одном из маленьких государств на северо-востоке Индии у царя Шуддходаны и его жены Майи после долгого ожидания родился сын Сиддхартха. Его родовое имя было Гаутама. Принц жил в роскоши, не ведая забот, со временем завёл семью и, наверное, сменил бы на троне своего отца, если бы судьба не распорядилась иначе. Узнав о том, что на свете существуют болезни, старость и смерть, принц решил избавить людей от страданий и отправился на поиски рецепта всеобщего счастья. Непростым оказался этот путь, но зато он увенчался успехом. В местности Гая (она и сегодня называется Бодх-Гая) он достиг Просветления, и ему открылся путь спасения человечества. Случилось это, когда Сиддхартхе было 35 лет. Он странствовал с проповедями по городам и сёлам, у него появились ученики и последователи, собиравшиеся послушать наставления Учителя, которого и стали называть Буддой. В возрасте 80 лет Будда скончался. Но ученики и после смерти Учителя продолжали проповедовать его учение по всей Индии. Они создавали монашеские общины, где это учение сохранялось и развивалось. Таковы факты реальной биографии Будды - человека, ставшего основателем новой религии. Мифологическое жизнеописание гораздо сложнее. Согласно легендам, будущий Будда перерождался в общей сложности 550 раз (83 раза был святым, 58 - царём, 24 - монахом, 18 - обезьяной, 13 - торговцем, 12 - курицей, 8 - гусем, 6 - слоном; кроме того, рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т.п.). Так было, пока боги не решили, что пришло ему время, родившись в облике человека, спасти мир, погрязший во мраке неведения. Рождение Будды в семье кшатрия было его последним рождением. Для высшего я веденья родился, Для блага мира - и в последний раз. Именно поэтому его назвали Сиддхартха (Тот, кто достиг цели). В момент рождения Будды цветы падали с неба, играла прекрасная музыка, а из неведомого источника исходило необыкновенное сияние. Мальчик родился с тридцатью двумя признаками «великого мужа (золотистая кожа, знак колеса на ступне, широкие пятки, светлый круг волос меж бровей, длинные пальцы рук, длинные мочки ушей и т.п.). Странствующий аскет-астролог предсказал, что его ждёт великое будущее в одной из двух сфер: или он станет могущественным правителем (чакра-вартином), способным установить праведный порядок на земле, или же будет великим отшельником. Мать Майя не принимала участия в воспитании Сиддхартхи - она скончалась (а по некоторым легендам удалилась на небеса, чтобы не умереть от восхищения сыном) вскоре после его рождения. Мальчика вырастила тётя. Отец Шуддходана желал, чтобы сын пошёл по первому из предсказанных ему путей. Однако аскет Асита Девала предрёк второе. Принц рос в обстановке роскоши и благополучия. Отец сделал всё возможное, чтобы предсказание не сбылось: окружил своего сына чудесными вещами, красивыми и беспечными людьми, создал атмосферу вечного праздника, чтобы он никогда не узнал о горестях этого мира. Сиддхартха вырос, в 16 лет женился, у него родился сын Рахула. Но усилия отца оказались напрасными. С помощью своего слуги принцу удалось три раза тайно выбраться из дворца. В первый раз он повстречал больного и понял, что красота не вечна и в мире есть уродующие человека недуги. Во второй раз он увидел старика и понял, что молодость не вечна. В третий раз он наблюдал похоронную процессию, показавшую ему недолговечность человеческой жизни. Сиддхартха решил искать выход из ловушки болезни - старости - смерти. По некоторым версиям, он встретил ещё и отшельника, что навело его на мысль о возможности преодолеть страдания этого мира, ведя уединённый и созерцательный образ жизни. Когда принц решился на великое отречение, ему исполнилось 29 лет. Покинув дворец, старого отца, жену и маленького сына, Сиддхартха стал бродячим отшельником (шрамана). Он быстро овладел самой сложной аскетической практикой - контролем дыхания, чувств, умением переносить голод, холод, жару, входить в транс (особое состояние, когда человек глубже проникает в свои ощущения и как бы сливается с высшим миром)… Однако его не покидало чувство неудовлетворённости. После шести лет аскетической практики и очередной неудачной попытки достигнуть высшего прозрения с помощью голодания он убедился, что путь самоистязания не приведёт к истине. Тогда, восстановив силы, он нашёл уединённое место на берегу реки, сел под дерево (которое с этого времени называется деревом Бодхи, т.е. «деревом Просветления») и погрузился в созерцание. Перед внутренним взором Сиддхартхи прошли его собственные прошлые жизни, прошлая, будущая и настоящая жизнь всех живых существ, а потом открылась высшая истина - Дхарма. С этого момента он и стал Буддой - Просветлённым, или Пробуждённым, - и принял решение учить Дхарме всех людей, взыскующих истины, независимо от их происхождения, сословной принадлежности, языка, пола, возраста, характера, темперамента и умственных способностей. В своей первой проповеди Будда говорил о двух «крайностях» в поведении людей, которые мешают им встать на путь религиозного спасения. «Есть, о братья, две крайности, которых должен избегать удалившийся от мира. Какие эти две крайности? Одна крайность предполагает жизнь, погружённую в желания, связанную с мирскими наслаждениями; это жизнь тёмная, низкая, заурядная, неблагая, бесполезная. Другая крайность предполагает жизнь в самоистязании; это жизнь, исполненная страдания, неблагая, бесполезная. Избегая этих двух крайностей, Татхагата (Так ушедший - эпитет Будды) во время Просветления постиг срединный путь - путь, способствующий постижению, пониманию, ведущий к умиротворению, к высшему знанию, к Просветлению, к нирване». Свой путь Будда называл «срединным», поскольку он лежал между обычной чувственной жизнью и аскетической практикой, минуя крайности того и другого. 45 лет Будда провёл, распространяя своё учение в Индии. По буддийским источникам, он завоевал приверженцев среди самых разных слоёв общества; в число последователей буддизма входило множество богатых и влиятельных людей, включая царя государства Магадха Бимбисару и его сына Аджаташатру. Незадолго до смерти Будда сообщил своему любимому ученику Ананде, что мог бы продлить свою жизнь на целый век, и потом Ананда горько сожалел, что не догадался попросить его об этом. Причиной смерти Будды послужила трапеза у бедного кузнеца Чунды, во время которой Будда, зная, что бедняк собирается потчевать своих гостей несвежим мясом, попросил отдать всё мясо ему. Не желая, чтобы пострадали спутники, Будда съел его. Перед смертью Будда сказал любимому ученику: «Ты, верно, думаешь, Ананда: «Смолкло слово Господина, нет у нас больше Учителя!» Нет, не так вам следует думать. Пусть Дхарма и Виная (дисциплина), которые я возгласил и которым наставил вас, будут вашим учителем, после того как не станет меня» («Сутра великой кончины»). Умер Будда в местечке Кушинагара, и его тело было по обычаю кремировано, а прах разделён между восемью последователями, шесть из которых представляли разные общины. Его прах захоронили в восьми разных местах, и впоследствии над этими захоронениями были воздвигнуты мемориальные надгробия - ступы. Согласно легенде, один из учеников из погребального костра зуб Будды, который стал главной реликвией буддистов. Ныне он находится в храме в городе Канди на острове Шри-Ланка. УЧИТЕЛЬ? БОГ? ИЛИ… Смерть, ил, как считают буддисты, освобождение - нирвана (или даже паринипвана, т.е. «великая нирвана»), Будды стала началом отсчёта времени существования буддизма как религиии. Кто же всё-таки Будда для буддистов - Учитель, Бог или всего лишь рядовой представитель довольно многочисленной категории будд - достигших Просветления личностей, проживающих в разных мирах вселенной? Несомненно, что Будда - Учитель, ибо он не только открыл Путь, но ещё и учил, как надо идти по нему. Сложнее ответить на вопрос, Бог ли Будда, ибо буддисты отрицают само понятие божества. Однако Будде присущи такие качества, как всемогущество, способность творить чудеса, принимать разный облик, влиять на ход событий и в здешнем мире, и в других мирах. Это те самые качества, которыми наделены боги, во всяком случае так считают люди, исповедующие разные религии. Буддизм признаёт существование неисчислимого количества будд - в разных мирах и в разных промежутках времени. Есть будды прошлого, настоящего и будущего. Есть группа в тысячу будд; есть будды, олицетворяющие различные виды деятельности и явления природы; будда врачевания и будда неизмеримого света, будда несокрушимой истины и вселенский, космический будда. Но только для одного из них - того, кто стал Учителем человечества, - этот эпитет является первым и главным именем. 3. Учение Будды Как и другие религии, буддизм обещает людям избавление от самых тягостных сторон человеческого существования - страданий, невзгод, страстей, страха смерти. Однако, не признавая бессмертия души, не считая её чем-то вечным и неизменным, буддизм не видит смысла в стремлении к вечной жизни на небесах, поскольку вечная жизнь с точки зрения буддизма и других индийских религий - это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена телесных оболочек. В буддизме для её обозначения принят термин «сансара». Буддизм учит, что сущность человека неизменна; под влиянием его поступков меняется лишь бытие человека и восприятие мира. Поступая плохо, он пожинает болезни, бедность, унижения. Поступая хорошо, вкушает радость и умиротворённость. Таков закон кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях. Этот закон составляет механизм сансары, который называется бхавачакра - «колесо жизни» (оно же круговорот бытия или круг сансары). Бхавачакра состоит из 12 нидан (звеньев): неведение (авидья) обусловливает кармические импульсы (санскары); они формируют сознание (виджняна); сознание определяет характер нама-рупы - физического и психического облика человека; нама-рупа способствует формированию шести чувств (аятана) - зрения, слуха, осязания, обоняния, ощущения вкуса и воспринимающего ума. Восприятие (спарша) окружающего мира порождает само чувство (ведана), а затем желание (тришна), которое в свою очередь порождает привязанность (упадана) к тому, что чувствует и о чём мыслит человек. Привязанность приводит к хождению в существование (бхава), следствием чего является рождение (джати). А всякое рождение влечёт за собой старость и смерть Таков цикл существования в мире сансары: каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой кармический след, который приводит человека к следующему воплощению. Цель буддиста - жить так, чтобы оставлять как можно меньше кармических следов. Это значит, что его поведение не должно зависеть от желаний и привязанности к объектам желаний. «Нет уз у тех, у которых нет приятного или неприятного». «Из привязанности рождается печаль, из привязанности рождается страх; у того, кто освободился от привязанности, нет печали, откуда возьмётся страх?» «Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не повреждён и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию». «Я всё победил, я всё знаю. Я отказался от всего, с уничтожением желаний я стал свободным. Учась у самого себя, кого назову я учителем?» Так сказано в «Дхаммападе». Высшую цель религиозной жизни буддизм видит в освобождении от кармы и выходе из круга сансары. В индуизме состояние человека, достигшего освобождения, называется мокшей, а в буддизме - нирваной. Люди, поверхностно знакомые с буддизмом, считают, что нирвана - это смерть. Неверно. Нирвана - это покой, мудрость и блаженство, угасание жизненного огня, а вместе с ним и значительной части эмоций, желаний, страстей - всего того, что составляет жизнь обычного человека. И всё же это не смерть, а жизнь, но только в ином качестве, жизнь совершенного, свободного духа. Буддизм не относится ни к моно-теистическим (признающим единого Бога), ни к политеистическим (осно-ванным на вере во многих богов) рели-гиям. Будда не отрицает существования богов и других сверхъестественных су-ществ (демонов, духов, созданий ада, богов в виде животных, птиц и т. п.), но считает, что они тоже подчинены дей-ствию кармы и, несмотря на все свои сверхъестественные силы, не могут самого главного -- избавиться от пере-воплощений. Только человек способен «встать на путь» и, последовательно меняя себя, искоренить причину пере-рождений, достичь нирваны. Чтобы освободиться от перерождений, богам и другим существам придётся родить-ся в человеческом облике. Только сре-ди людей могут появиться высшие ду-ховные существа: будды -- люди, дос-тигшие Просветления и нирваны и проповедующие дхарму, и бодхисаттвы -- те, кто откладывает уход в нир-вану ради помощи другим созданиям. Может сложиться представление, что буддам и бодхисаттвам принадлежит в буддизме то же место, которое в других религиях занимают боги или единый Бог. Но это не совсем так. Будды не могут, как боги других религий, создавать мир, управлять стихиями; они, как правило, не могут карать грешников или награждать праведни-ков. Буддизм -- и в этом ещё одно его отличие от других религий -- не при-знает провидения и подчёркивает, что судьба человека зависит только от его собственных усилий в неустанной сознательной работе над собой. Поэ-тому в «Дхаммападе» сказано: «Строи-тели каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники подчиняют себе дерево, мудрецы сми-ряют самих себя». 4. Дхарма - закон, истина, путь Важнейшим для буддистов является понятие дхармы -- оно олицетворяет учение Будды, высшую истину, кото-рую он открыл всем существам. «Дхар-ма» буквально означает «опора», то, что поддерживает». Слово «дхарма» оз-начает в буддизме моральную доброде-тель, прежде всего -- это моральные и духовные качества Будды, которым ве-рующие должны подражать. Кроме того, дхармы -- это конечные элемен-ты, на которые, с точки зрения будди-стов, разбивается поток существования. В своей первой речи после Про-светления Будда сравнивает способно-сти разных людей к постижению Дхар-мы с разнообразием лотосов в пруду: «И оглядев мир своим оком Просвет-лённого, Благословенный, преиспол-ненный сочувствия ко всем живым су-ществам, увидел существа, умственный взор которых лишь чуть запорошён пылью, и существа, чей умственный взор покрыт густым слоем пыли; уви-дел существа с острой восприимчиво-стью и с восприимчивостью вялой, су-щества, имеющие благоприятную фор-му, существа, легко поддающиеся вну-шению и трудно поддающиеся внуше-нию, а также увидел существа, пребы-вающие в страхе перед иным миром и в страхе перед грехом. Подобно тому как в пруду, заросшем голубыми лотосами, или в пруду, заросшем белыми лотосами, одни лотосы, рождённые в воде, выросшие в воде, не поднимаются над водой, другие, рождённые в воде, выросшие в воде, стоят вровень с поверхностью воды, а третьи, рождённые в воде, выросшие в воде, поднявшись над водой, стоят так, что вода их не касается» Будда, как никто иной, понимал, что люди от рождения не похожи друг на друга и нельзя к ним подхо-дить с одной и той же меркой: одним Дхарму нужно долго растолковывать, другие поймут её на лету, третьим по-требуется привести множество примеров, четвёртых придётся учить йоге и т. п. Не существует единого, универ-сального свода буддийского веро-учения, пригодного для всех. Нет уни-версальной формулы Дхармы на все случаи жизни; есть Дхарма, изложен-ная с учётом индивидуальных особен-ностей каждой группы верующих. По-этому буддийское учение может быть выражено высоким учёным стилем и простой народной речью, в стихах и в прозе, изображено на священной диаграмме (мандале) и на красочной картине. Разные цели преследуют и буд-дийские проповеди. Высшей целью всегда остаётся нирвана, но достичь её трудно -- это под силу лишь самым упорным и одарённым. Для простых людей, не способных на значитель-ные духовные усилия в нынешнем своём состоянии, промежуточным этапом может стать воплощение в лучших условиях или возрождение на небесах какого-нибудь будды, с помо-щью которого они в дальнейшем до-стигнут нирваны. 5. Четыре благородные истины Проповедь своего учения Будда на-чал с «четырёх благородных истин»: о страдании и причине страдания, об устранении причины страдания и о пути к прекращению страданий. Обращаясь к ученикам (бхикшу), он говорил: «А вот, бхикшу, благая истина о том, что существует стра-дание. Рождение -- страдание, ста-рость -- страдание, болезнь -- стра-дание, смерть -- страдание; соеди-нение с тем, что неприятно, -- стра-дание; разъединение с тем, что при-ятно, -- страдание; когда нет возмож-ности достичь желаемого -- это тоже страдание. А вот, бхикшу, благая истина о том, что страдание имеет свою при-чину. Это жажда, ведущая к перерож-дениям, связанная с наслаждением и страстью, находящая удовольствие то в одном, то в другом. Жажда бывает трёх видов: жажда чувственных удо-вольствий, жажда перерождений, жажда существования. А вот, бхикшу, благая истина о том, что страдание может быть унич-тожено. Это уничтожение жажды и полное уничтожение страсти, отказ от них, отречение от них, освобожде-ние от них, отвращение от них. А вот, бхикшу, благая истина о том, что существует путь, ведущий к уничтожению страдания». Согласно первой истине, всё су-ществование человека есть страдание, неудовлетворённость, разочарование. Даже счастливые моменты его жизни в конечном итоге приводят к страда-нию, поскольку они связаны с «разъ-единением с приятным». Хотя страда-ние универсально, оно не является изначальным и неизбежным состоя-нием человека, поскольку имеет свою причину -- желание или жажду удо-вольствий, -- которая лежит в основе привязанности людей к существова-нию в этом мире. Такова вторая бла-городная истина. Пессимизм первых двух благо-родных истин преодолевается благо-даря следующим двум. Третья истина гласит, что причина страдания, по-скольку она порождена самим челове-ком, подвластна его воле и может быть им же и устранена -- чтобы по-ложить конец страданиям и разоча-рованиям, надо прекратить испыты-вать желания. О том, как достичь этого, гово-рит четвёртая истина, указывающая восьмеричный благородный путь: "Этот благой восьмеричный путь та-ков: правильные взгляды, правиль-ные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознание и правильное сосредоточение». Таким образом, восьмеричный путь включает три основных упражнения в нравственности, созерцании и мудрости: культуру поведения (правильные мысль, слово, дей-ствие), культуру медитации (пра-вильные осознание и сосредоточе-ние) и культуру мудрости (правиль-ные взгляды). Культура поведения -- это пять (или десять) основных заповедей (панчашила); не убей, не бери чу-жого, не лги, не пьянствуй, не прелю-бодействуй; а также добродетели щедрости, благонравия, смирения, очищения и т. п. Культура медитации -- это сис-тема упражнений, ведущих к достиже-нию внутреннего умиротворения, от-странённости от мира и обузданию страстей. Культура мудрости -- знание че-тырёх благородных истин. Из всех четырёх благородных истин именно восьмеричный бла-городный путь составляет главное своеобразие буддизма. Будда не просто говорит о возможности освобождения, но и указывает путь, следуя которому каждый человек собственными силами, без помощи Будды, способен достичь свободы и сам стать буддой. Всё это очень отличается от других известных религий -- ни одно религиозное учение не признаёт, что человек может своими усилиями сделать себя богоподобным существом. Встав на этот путь, можно прий-ти к высшей цели человека -- выхо-ду из круговорота перерождений (сансары), а значит, к прекращению страданий и достижению состояния освобождения -- оно и есть нирвана. Следование только моральным заповедям приносит лишь временное облегчение. Четыре благородные истины во многом напоминают принципы ле-чения: история болезни, диагноз, признание возможности выздоров-ления, рецепт лечения. Не случайно буддийские тексты сравнивают Буд-ду с врачевателем, который занят не общими рассуждениями, а практическим излечением людей от духовных страданий. И своих по-следователей Будда призывает посто-янно работать над собой во имя спасения, а не тратить время на раз-глагольствования о предметах, кото-рых они не знают по собственному опыту. Он сравнивает любителя от-влечённых разговоров с глупцом, который вместо того, чтобы позво-лить вытащить попавшую в него стрелу, начинает рассуждать о том, кем она была выпущена, из какого материала сделана и т. п. Другими важными положениями учения Будды являются три характе-ристики бытия (трилакшана): стра-дание (духкха), изменчивость (анитья) и отсутствие неизменной души (анатман), а также учение о взаимо-зависимом возникновении всех ве-щей (пратитъя самутпада). В мире нет ничего вечного -- вся-кое существование имеет начало и ко-нец, а раз так, то не может быть и не-изменной души. Человек состоит из пяти скандх: телесного (рупа), ощуще-ний (ведана), распознавания (санджня), кармических импульсов (санскар) и сознания (виджняна). После смерти большая часть скандх разрушается. Существует мнение, согласно которому этика Будды принципиально безличностна. Оно по меньшей мере односторонне. Действительно, восхождение к нирване означает погружение в абсолютно безличное, внутренне нерасчленённое состояние. В этом заключается спасение человека. Однако осуществляется оно исключительно в результате усилий самого человека, на основе его свободного индивидуального выбора. Всё определяется мерой добродетельности намерений и поступков индивида, обнаруживаемых, правда, во всей совокупности предшествующих рождений. Поскольку нравственная судьба человека полностью подконтрольна ему самому и возможности его спасения не ограничены ничем, кроме его собственных грехов и ошибок, то по этому признаку этику Будды вполне можно квалифицировать как этику личности. Как полагает Будда, человек, чтобы утвердиться в качестве нравственной личности, должен победить самого себя как обособленного эмпирического индивида. В этом смысле его можно упрекнуть в том, что он предельно этизирует понятие личности. Учение Будды нацелено на прекращение человеческих раздоров через внутреннее самосовершенствование личности. В его основе лежат нравственные цели. При этом нравственность интересует Будду прежде всего в её практически действенном выражении, как путь спасения. Вопросы её философско-доктринального обоснования он оставляет в стороне. Точно так же в учении Будды крайне слабо выражен религиозный элемент. Правда, ученики Будды были организованы в монашеские общины. Община (сангха) наряду с учителем и учением - одно из трёх прибежищ буддиста. Однако сама община цементировалась во времена Будды общностью духовно-нравственных стремлений и соответствующего образа жизни; составленный им устав общины основывается на прецедентах. Буддизм в его первоначальном содержании не был отгорожен от мира ни философским, ни религиозным панцирем. Это предопределило его удивительную пластичность, способность к изменениям и ассимиляции. На почве разнообразных философских и исторических традиций буддизм стал быстро видоизменяться, он разделился на ряд течений, из которых наиболее значительными стали северный буддизм (махаяна, что переводится как «большая колесница») и южный буддизм (хинаяна, «малая колесница»). Одновременно происходило обожествление образа Будды, превращение буддизма в религиозное мировоззрение и практику. В таком виде он дошёл наших дней. Буддизм имеет сегодня сотни миллионов приверженцев и является очень заметным, значимым элементом в религиозно-культурном многообразии современного мира. |
|
Согласно научной и исторической литературе, термин «этика» происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»). Первоначально под «этосом» осознавалось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище и т.д. В последующих этапах развития оно стало преимущественно обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, характер; так, в одном из фрагментов Гераклита говорится, что «этос» человека есть его божество. Проводя параллели от слова «этос» в значении характера человека, Аристотель, в свою очередь, образовал прилагательное «этический» для того, чтобы, таким образом, охарактеризовать и обозначить особый класс человеческих качеств, которые были им названы как «этические добродетели». Этические добродетели, согласно Аристотелю, являются свойствами человеческого характера, темперамента, их также называют душевными качествами. Относительно других религий, буддизм так же обещает людям избавление от самых тягостных сторон человеческого существования – страданий, невзгод, страстей, страха смерти. Однако, различие основывается на том, что буддизм не признавая бессмертия души, не считая её чем-то вечным и неизменным, не видит смысла в стремлении к вечной жизни на небесах. Ответ на данный парадокс заключается в том, что вечная жизнь сточки зрения буддизма и других индийских религий – это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена телесных оболочек. В буддизме для её обозначения, то есть смены телесных оболочек, принят термин «сансара». Буддизм своих последователей учит тому, что сущность человека несмотря на влияние его поступков остается неизменной; однако меняется лишь бытие человека и восприятие мира. Человек, поступая плохо, позже пожинает болезни, бедность и унижения. Поступая хорошо, по жизни вкушает радость и умиротворённость. В этом заключается тайный смысл закона кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях. Таким образом целью данной работы является сравнительный анализ религии буддизм с другими мировыми религиям, и как вывод данного исследования будет освещение понятия этика с точки зрения религии буддизма. Глава 1. Социальная сущность и историческое происхождение Глава 2. Религия буддизм и его этика Заключение |
|
Согласно научной и исторической литературе, термин «этика» происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»). Первоначально под «этосом» осознавалось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище и т.д. В последующих этапах развития оно стало преимущественно обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, характер; так, в одном из фрагментов Гераклита говорится, что «этос» человека есть его божество. Проводя параллели от слова «этос» в значении характера человека, Аристотель, в свою очередь, образовал прилагательное «этический» для того, чтобы, таким образом, охарактеризовать и обозначить особый класс человеческих качеств, которые были им названы как «этические добродетели». Этические добродетели, согласно Аристотелю, являются свойствами человеческого характера, темперамента, их также называют душевными качествами. Относительно других религий, буддизм так же обещает людям избавление от самых тягостных сторон человеческого существования – страданий, невзгод, страстей, страха смерти. Однако, различие основывается на том, что буддизм не признавая бессмертия души, не считая её чем-то вечным и неизменным, не видит смысла в стремлении к вечной жизни на небесах. Ответ на данный парадокс заключается в том, что вечная жизнь сточки зрения буддизма и других индийских религий – это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена телесных оболочек. В буддизме для её обозначения, то есть смены телесных оболочек, принят термин «сансара». Буддизм своих последователей учит тому, что сущность человека несмотря на влияние его поступков остается неизменной; однако меняется лишь бытие человека и восприятие мира. Человек, поступая плохо, позже пожинает болезни, бедность и унижения. Поступая хорошо, по жизни вкушает радость и умиротворённость. В этом заключается тайный смысл закона кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях. Таким образом целью данной работы является сравнительный анализ религии буддизм с другими мировыми религиям, и как вывод данного исследования будет освещение понятия этика с точки зрения религии буддизма. Глава 1. Социальная сущность и историческое происхождение Глава 2. Религия буддизм и его этика Заключение |
|
Согласно научной и исторической литературе, термин «этика» происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»). Первоначально под «этосом» осознавалось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище и т.д. В последующих этапах развития оно стало преимущественно обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, характер; так, в одном из фрагментов Гераклита говорится, что «этос» человека есть его божество. Проводя параллели от слова «этос» в значении характера человека, Аристотель, в свою очередь, образовал прилагательное «этический» для того, чтобы, таким образом, охарактеризовать и обозначить особый класс человеческих качеств, которые были им названы как «этические добродетели». Этические добродетели, согласно Аристотелю, являются свойствами человеческого характера, темперамента, их также называют душевными качествами. Относительно других религий, буддизм так же обещает людям избавление от самых тягостных сторон человеческого существования – страданий, невзгод, страстей, страха смерти. Однако, различие основывается на том, что буддизм не признавая бессмертия души, не считая её чем-то вечным и неизменным, не видит смысла в стремлении к вечной жизни на небесах. Ответ на данный парадокс заключается в том, что вечная жизнь сточки зрения буддизма и других индийских религий – это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена телесных оболочек. В буддизме для её обозначения, то есть смены телесных оболочек, принят термин «сансара». Буддизм своих последователей учит тому, что сущность человека несмотря на влияние его поступков остается неизменной; однако меняется лишь бытие человека и восприятие мира. Человек, поступая плохо, позже пожинает болезни, бедность и унижения. Поступая хорошо, по жизни вкушает радость и умиротворённость. В этом заключается тайный смысл закона кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях. Таким образом целью данной работы является сравнительный анализ религии буддизм с другими мировыми религиям, и как вывод данного исследования будет освещение понятия этика с точки зрения религии буддизма. Глава 1. Социальная сущность и историческое происхождение морали и религии 1.1.Понятие термина «этика?» Для того чтобы точность перевода аристотелевского понятия «этического» с греческого языка на латинский передалось без искажения, Цицерон сконструировал термин «moralis» (моральный). Он образовал его от слова «mos» (mores – мн. число) – латинского аналога греческого «этос», обозначавшего характер, темперамент, нрав, моду, обычай, традиции. Цицерон, в частности, говорил о моральной философии, понимая под ней ту же область знания, которую Аристотель по-своему именовал этикой. В IV веке н.э. в латинском языке возникает термин «moralitas» (мораль), являющийся прямым аналогом греческого термина «этика» . Оба этих понятия, одно греческого, другое латинского происхождения, в наши дни входят в новоевропейские языки. Наряду с ними в ряде языков возникают свои собственные слова, которые обозначают по сути ту же самую действительность, которая обобщается в мировых терминах как «этика» и «мораль» . В первоначальном значении понятий «этика», «мораль», «нравственность» – являются разными словами, но термин один. Со временем ситуация изменялась и в процессе развития культуры, в частности, по мере выявления своеобразия этики как области знания, за разными словами начинает закрепляться разный смысл: под этикой главным образом подразумевается соответствующая ветвь знания, наука, а под моралью (нравственностью) – изучаемый ею предмет. Интерпретируя вопрос о том, что же такое мораль? Следует вывод, о том, что настоящий вопрос является не только исходным, основным в этике; на протяжении всей истории этой науки, длящийся около двух с половиной тысяч лет, он оставался основным фокусом ее исследовательских интересов. Всевозможные школы и мыслители дают на него разнообразные ответы. Не существует единого, бесспорного, безусловного определения морали, что имеет прямое отношение к оригинальности данного феномена. Размышления о морали оказываются многообразными образами самой морали и это вовсе не случайно, так как мораль в своей сущности – больше, чем совокупность фактов, которая подлежит обобщению. Мораль – не просто то, что есть. Она скорее есть то, что должно быть . Поэтому адекватное отношение этики к морали не ограничивается ее отражением и истолкованием. Этика также обязана предложить свою собственную модель морально-этических норм. Философов-моралистов в данном отношении можно уподобить архитекторам, профессиональное призвание которых состоит в том, чтобы проектировать новые здания . 1.2. Исторические аспекты буддизма как религии Сами буддисты ведут отсчёт времени зарождения своей веры и религии от смерти Будды, но при всем этом среди них нет единого мнения о годах его жизни. В соответствии традиции наиболее старой буддийской школы – тхеравады, Будда жил с 624 по 544 г. до н.э. Согласно этой дате в 1956 г. отмечалось 2500-летие буддизма. Научная версия, принимает так же и греческие свидетельства о дате венчания на царство прославленного индийского царя Ашоки, время жизни родоначальника буддизма – с 566 по 486 г. до н.э. В некоторых направлениях буддизма придерживаются более поздних дат: 488 –368 гг.до н.э. На сегодняшний день ученые-исследователи пересматривают даты правления Ашоки и как следствие даты жизни Будды . Колыбелью буддизма является Индия (а если точнее, то долина реки Ганги – одна из наиболее экономически развитых частей страны). Самой высокопоставленной и имеющей влияние религией Древней Индии был брахманизм. Его культовая практика состояла в основном из жертвоприношений многочисленным богам и сложных ритуальных церемоний, сопутствовавших практически любому событию. Общество делилось на варны (сословия): брахманов (высшее сословие духовных наставников и жрецов), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев) и шудр (обслуживавших все остальные сословия) . Буддизм со времени своего возникновения отвергал эффективность и результативность жертвоприношений и не принимал разделения на варны, подвергая рассмотрению общество как целое состоящее из двух категорий: высшей, куда входили брахманы, кшатрии и гахапати (домохозяева – люди, владевшие земельной и прочей собственностью), и низшей – она включала людей, обслуживавших господствующие слои. На территории Индии в VI-III вв. до н.э. существовало множество небольших государств. В Северо-Восточной Индии, где проходила деятельность Будды, их было 16. По своему общественно-политическому устройству это были либо племенные республики, либо монархии. Они находились во враждебных отношениях между собой, захватывали территории друг друга, и уже к концу жизни Будды многие из них были поглощены набиравшими мощь государствами Магадха и Кошала. В это же время появилось множество аскетов – людей, которые не имели собственности и жили подаянием сострадавших им людей. Согласно версии ученых именно среди таких аскетов-отшельников и происходил процесс зарождения новых религий как буддизм, джайнизм и другие учения, которые в своей сущности не признавали ритуалов брахманов, и видели смысл не в привязанности к вещам, месту, людям, а именно в сосредоточении целиком на внутренней жизни человека, согласно этому принципу, представителей этих новых учений называли шраманами («шрамана» означает «совершающий духовное усилие») . Буддизм как религия впервые обратился к человеку не именно как к представителю какого-либо сословия, племени или определённого пола, а как к личности (в отличие от последователей брахманизма Будда считал, что женщины наравне с мужчинами способны достичь высшего духовного совершенства). Для буддизма в человеке важны были только индивидуальные заслуги. Так, словом «брахман» Будда называет любого великодушного, возвышенного и мудрого человека независимо от его происхождения. По этому поводу говорится в одном из классических сочинений раннего буддизма – «Дхаммападе»: «Я не называю человека брахманом только за его рождение или за его мать. Я называю брахманом того, кто свободен от привязанности и лишён благ Я называю брахманом того, кто отрешился от мира и сбросил ношу, кто даже в этом мире знает уничтожение своего страдания. Я называю брахманом того, кто среди взволнованных остаётся невзволнованным, среди поднимающих палку – спокойным, среди привязанных к миру – свободным от привязанностей. Я называю брахманом того, кто говорит правдивую речь, поучительную, без резкостей, никого не обижающую. Я называю брахманом того, кто знает своё прежнее существование и видит небо и преисподнюю; кто, будучи мудрецом, исполненным совершенного знания, достиг уничтожения рождения; кто совершил всё, что возможно совершить» . Глава 2. Религия буддизм и его этика 2.1. Бог Будда и его учение В биографии Будды воспроизведена судьба реального человека в обрамлении мифов и легенд, со временем почти полностью оттеснивших историческую фигуру основателя буддизма. В исторической и религиозной литературе в большинстве случаев встречается дата рождения будущего Будды как более 25 веков назад. В одном из маленьких государств на северо-востоке Индии у царя Шуддходаны и его супруги Майи после долгого ожидания родился сын Сиддхартха. Его родовое имя было Гаутама. Принц обладал благоприятными условиями к жизни и процветанию, не знал забот, по истечению времени, он завёл семью и, по надеждам его отца, мог бы сменить его на троне, но только в том случае если бы судьба не распорядилась иначе. Принц, узнав о том, что на свете существуют болезни, старость и смерть, решил избавить и освободить людей от страданий, которые сопровождают человека по всей его жизни, отправился на поиски рецепта всеобщего счастья. Но этот путь оказался очень сложным, однако все поиски принца и его жизненные воззрения увенчались успехом воплощения. В местности Гая (в наши дни называется Бодх-Гая) он достиг Просветления, и ему открылся путь спасения человечества. Случилось это, когда Сиддхартхе было 35 лет. Он странствовал со своими поучениями по всей стране, городам и селам, к тому времени у него появились ученики и последователи, собиравшиеся послушать наставления Учителя, которого и стали называть Буддой. К 80 годам Будда скончался, но его ученики и после смерти Учителя продолжали проповедовать учение по всей Индии. Позже они стали создавать монашеские общины, где это учение сохранялось и развивалось. Так обстоят факты реальной биографии жизни Будды – человека, ставшего основателем новой, в будущем мировой, религии . Что касается мифологического жизнеописания, то здесь ученые и исследователи уделяют особое внимание на гораздо большие сложности. В соответствии легендам, будущий Будда перерождался в общей сложности 550 раз (83 раза был святым, 58 – царём, 24 – монахом, 18 – обезьяной, 13 – торговцем, 12 – курицей, 8 – гусем, 6 – слоном; кроме того, рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т.п.). Согласно легенде, так было, пока боги не решили, что пришло ему время, родившись в облике человека, спасти мир, погрязший во мраке неведения. Рождение Будды в семье кшатрия было его последним рождением . Именно поэтому его назвали Сиддхартха (тот, кто достиг цели). В момент рождения Будды цветы падали с неба, играла прекрасная музыка, а из неведомого источника исходило необыкновенное сияние. Мальчик родился с тридцатью двумя признаками «великого мужа» (золотистая кожа, знак колеса на ступне, широкие пятки, светлый круг волос меж бровей, длинные пальцы рук, длинные мочки ушей ит.п.). Странствующий аскет-астролог предсказал, что его ждёт великое будущее в одной из двух сфер: или он станет могущественным правителем (чакра-вартином), способным установить праведный порядок на земле, или же будет великим отшельником. Мать Майя не принимала участия в воспитании Сиддхартхи – она скончалась (а по некоторым легендам удалилась на небеса, чтобы не умереть от восхищения сыном) вскоре после его рождения. Мальчика вырастила тётя. Отец Шуддходана желал, чтобы сын пошёл по первому из предсказанных ему путей. Однако аскет Асита Девала предрёк второе. Принц рос в обстановке роскоши и благополучия, его Отец делал всё возможное, чтобы страшное для него пророчество не сбылось, окружив своего сына дивными вещами, интересными и беспечными людьми, организовав атмосферу вечного торжества, чтобы тот никогда не узнал о горестях и скорбях реального мира. Сиддхартха вырос, в 16 лет женился, и у него родился сын Рахула. Но усилия отца оказались тщетными. С помощью своего слуги принцу удалось три раза тайно выбраться из дворца. В первый его побег он повстречал больного человека и понял, что красота не вечна и в мире есть уродующие человека недуги. Во второй раз принц лицезрел старого и дряхлого старика, тем самым, поняв, что молодость не вечна. В последний, третий раз Сиддхартха наблюдал похоронную процессию, представившую ему недолговечность человеческой жизни. Принц решил искать выход из злополучных спутников человеческой жизни, то есть болезни – старости и смерти. По некоторым литературным источникам, Сиддхартха на кануне принятия столь ответственного решения встретил ещё и отшельника, что и навело его на мысль о вероятности преодолеть мучения этого мира, ведя уединённый и созерцательный образ существования. Когда принц решился на великое отречение, ему исполнилось 29 лет. Покинув дворец, старого отца, жену и маленького сына, Сиддхартха стал бродячим отшельником (шрамана). Не смотря на жизненные лишения, он достаточно быстро овладел самой сложной аскетической практикой – контролем дыхания, чувств, умением переносить голод, холод, жару, входить в транс (особое состояние, когда человек глубже проникает в свои ощущения и как бы сливается с высшим миром)… Спустя шесть лет аскетической практики и как следствия очередной безрезультатного старания достигнуть высшего прозрения с помощью голодания, Сиддхартха убедился, что путь самоистязания не приведёт его к истине. И пришел к выводу что, следует искать ключ к загадке в своей душу и миросозерцании. Так Сиддхартха, восстановив силы, нашёл уединённое место на берегу реки, сел под дерево (которое с этого времени называется деревом Бодхи, т.е. «деревом Просветления») и предался созерцанию. Перед внутренним взором Сиддхартхи прошли его собственные прошлые жизни, прошлая, будущая и настоящая жизнь всех живых существ, а потом открылась высшая истина – Дхарма. С этого момента он и стал Буддой – Просветлённым, или Пробуждённым, – и принял решение учить Дхарме всех людей, взыскующих истины, независимо от их происхождения, сословной принадлежности, языка, пола, возраста, характера, темперамента и умственных способностей . В своей первой проповеди Будда говорил о двух «крайностях» в поведении людей, которые мешают им встать на путь религиозного спасения . «Есть, о братья, две крайности, которых должен избегать удалившийся от мира. Какие эти две крайности? Одна крайность предполагает жизнь, погружённую в желания, связанную с мирскими наслаждениями; это жизнь тёмная, низкая, заурядная, бесполезная. Другая крайность предполагает жизнь в самоистязании; это жизнь, исполненная страдания, бесполезная. Избегая этих двух крайностей, Татхагата (Так ушедший – эпитет Будды) во время Просветления постиг срединный путь – путь, способствующий постижению, пониманию, ведущий к умиротворению, к высшему знанию, к Просветлению, к нирване» . Свой путь Будда называл «срединным», поскольку он лежал между обычной чувственной жизнью и аскетической практикой, минуя крайности того и другого. 45 лет Будда провёл, распространяя своё учение в Индии. По буддийским источникам, он завоевал приверженцев и последователей среди самых разных слоёв общества; в число последователей буддизма входило множество богатых и влиятельных людей, включая царя государства Магадха Бимбисару и его сына Аджаташатру. Известен, факт того, что незадолго до своей смерти Будда сообщил своему преданному ученику Ананде о том, что мог бы продлить свою жизнь на целых сто лет, но он не открыл секрета, что остается секретом до сих пор, и по легенде Ананда позже горько сожалел, что не расспросил его учителя об этой тайне. Согласно легенде, причиной смерти Будды послужила трапеза у бедного кузнеца Чунды. Трагедия этого ужина заключалась в том, что Будда, зная, что бедняк собирается угощать своих гостей несвежим мясом, попросил отдать всё мясо ему. Будда не желал, чтобы пострадали его спутники, съев опасный ужин. Перед самой смертью Будда сказал любимому ученику: «Ты, верно, думаешь, Ананда: «Смолкло слово Господина, нет у нас больше Учителя!» Нет, не так вам следует думать. Пусть Дхарма и Виная (дисциплина), которые я возгласил и которым наставил вас, будут вашим учителем, после того как не станет меня» («Сутра великой кончины»). Умер Будда в местечке Кушинагара, по обычаю его тело было кремировано, а прах был разделён между восемью последователями, шесть из которых были представителями разных общин. Прах Будды захоронили в восьми разных местах страны, и через некоторое время над этими святыми захоронениями были воздвигнуты мемориальные надгробия – ступы. Согласно легенде, один из учеников из погребального костра зуб Будды, который стал главной реликвией буддистов. Спустя много лет уже в наши дни он находится в храме в городе Канди на острове Шри-Ланка. Смерть, или, как полагают буддисты, освобождение – нирвана (или даже паринипвана, т.е. «великая нирвана»), Будды стала основой отсчёта времени существования буддизма как религии . Вопросом о том, кто же всё-таки Будда для буддистов – Учитель, Бог или всего лишь рядовой представитель довольно многочисленной категории будд – достигших Просветления личностей, проживающих в разных мирах вселенной, интересует как ученых так и его последователей. Возможно, что Будда – Учитель, ибо он не только открыл Путь, но ещё и учил, как надо идти по нему. Однако сложнее ответить на вопрос, Бог ли Будда, ибо буддисты отрицают само понятие божества. Тем не менее, Будде присущи такие качества, как всемогущество, способность творить чудеса, перевоплощаться, оказывать влияние на ход событий и в реальном мире, и в других мирах. Возможно, что это именно те, самые качества, которыми наделены боги, во всяком случае, так считают люди, исповедующие разные религии. Буддизм признаёт существование бесчисленное количества будд – в разных мирах и в разных интервалах временного пространства. Есть будды прошлого, настоящего и будущего. Есть группа в тысячу будд; есть будды, олицетворяющие различные виды деятельности и явления природы; Будда врачевания и будда неизмеримого света, будда несокрушимой истины и вселенский, космический будда. Но только для одного из них – того, кто стал Учителем человечества, – этот эпитет является первым и главным именем . 2.2. «Четыре благородных истины» в буддизме Проповедь своего учения Будда приступил с «четырёх благородных истин»: о страдании и причине страдания, об устранении причины страдания по пути к прекращению страданий. Обращаясь к ученикам (бхикшу), он изрекал: «А вот, бхикшу, благая истина о том, что существует страдание . Рождение — страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание; соединение с тем, что неприятно, — страдание; разъединение с тем, что приятно, — страдание; когда нет возможности достичь желаемого — это тоже страдание. А вот, бхикшу, благая истина о том, что страдание имеет свою причину. Это жажда, ведущая к перерождениям, связанная с наслаждением и страстью, находящая удовольствие то в одном, то в другом. Жажда бывает трёх видов: жажда чувственных удовольствий, жажда перерождений, жажда существования. А вот, бхикшу, благая истина о том, что страдание может быть уничтожено. Это уничтожение жажды и полное уничтожение страсти, отказ от них, отречение от них, освобождение от них, отвращение от них. А вот, бхикшу, благая истина о том, что существует путь, ведущий к уничтожению страдания» . Согласно первой истине, всё существование человека есть страдание, неудовлетворённость, разочарование. Даже безоблачные и счастливые моменты его жизни в конечном итоге приводят к страданию, поскольку они связаны с «разъединением с приятным». Не смотря на то, что страдание универсально, оно не является изначальным и неизбежным состоянием человека, поскольку имеет свою причину — желание или жажду удовольствий, — которая лежит в основе привязанности людей к существованию в этом мире. Такова вторая благородная истина. Пессимизм первых двух возвышенных истин преодолевается благодаря следующим двум. Третья истина гласит, что основание страдания, поскольку оно порождено самим человеком, подвластно его воле и может быть им же и устранено — чтобы положить конец страданиям и разочарованиям, надо прекратить испытывать желания. О том, как достичь этого, говорит четвёртая истина, указывающая восьмеричный благородный путь: «Этот благой восьмеричный путь таков: правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознание и правильное сосредоточение» . Таким образом, восьмеричный путь включает три основных упражнения в нравственности, созерцании и мудрости: культуру поведения (правильные мысль, слово, действие), культуру медитации (правильные осознание и сосредоточение) и культуру мудрости (правильные взгляды). Культура поведения — это пять (или десять) основных заповедей (панчашила); не убей, не бери чужого, не лги, не пьянствуй, не прелюбодействуй; а также добродетели щедрости, благонравия, смирения, очищения и т. п. Культура медитации — это система упражнений, ведущих к достижению внутреннего умиротворения, отстранённости от мира и обузданию страстей. Культура мудрости — знание четырёх благородных истин. Из всех четырёх благородных истин именно восьмеричный благородный путь составляет главное своеобразие буддизма. Будда непросто говорит о возможности освобождения, но и указывает путь, следуя которому каждый человек собственными силами, без помощи Будды, способен достичь свободы и сам стать Буддой. Всё это очень отличается от других известных религий — ни одно религиозное учение не признаёт, что человек может своими усилиями сделать себя богоподобным существом . Встав на этот путь, можно прийти к высшей цели человека — выходу из круговорота перерождений (сансары), а значит, к прекращению страданий и достижению состояния освобождения — оно и есть нирвана . Следование только моральным заповедям приносит лишь временное облегчение. Четыре благородные истины во многом походят на принципы врачевания: болезни, диагноз, признание возможности выздоровления, рецепт лечения. Видимо по этому буддийские тексты порой сравнивают бога Будду с врачевателем, который занят не общими рассуждениями о проблеме, а практическим излечением людей от внутренних, поселившихся в душе страданий. К тому же Будда призывает постоянно работать своих последователей над собой во имя спасения, а не тратить время на разглагольствования о предметах и проблемах, которых они не знают согласно собственному личному опыту. Будда сравнивает любителя отвлечённых разговоров с глупцом, который своими действиями вместо того, чтобы позволить вытащить попавшую в него стрелу, начинает думать и рассуждать о том, кем же она была выпущена, из какого материала сделана и т. п. Следующими важными положениями учения Будды являются три характеристики бытия (трилакшана): это страдание (духкха), изменчивость (анитья) и отсутствие неизменной души (анатман), а также большую роль здесь играет учение о взаимозависимом возникновении всех вещей (пратитъя самутпада). Согласно учению, в мире нет ничего вечного – всякая жизнь, существование имеют начало и конец, следовательно, вывод в том, что не может быть неизменной души. Человек как единое целое состоит из пяти скандх: телесного (рупа), ощущений (ведана), распознавания (санджня), кармических импульсов (санскар) и сознания (виджняна). После смерти большая часть скандх разрушается . Заключение В мировом религиозном сообществе существует мнение, согласно которому этика Будды в ее проявлениях является принципиально безликой. Однако согласно одной из версий, оно, по меньшей мере, является односторонним. Действительно, процесс восхождения к нирване, согласно Будде, означает погружение в абсолютно безличное, внутренне нерасчленённое состояние человеческой души, как результат, именно в этом заключается спасение человека. Однако осуществление этого спасения исключительно в результате усилий самого человека, на основе его свободного индивидуального выбора ведения образа жизни. Всё это определяется некоторой мерой добродетельности намерений и поступков индивида, который обнаруживает, правду, во всей ее совокупности предшествующих рождений. Постольку поскольку нравственная судьба человека полностью является подконтрольной ему самому и возможности к спасению как таковые не ограничены ничем, кроме его собственных грехов и ошибок, то именно поэтому признаку этику Будды, вполне можно квалифицировать как этику личности. Согласно учению Будды, человек, для того чтобы утвердиться в качестве нравственности личности, должен победить самого себя как обособленного эмпирического индивида в мировых реалиях. Но согласно этого смысла возможен упрек в том, что он предельно максимизирует значение этики в понятие личности . Учение Будды обращено на прекращение людских раздоров через внутреннее самосовершенствование, и в его основе лежат именно нравственные цели. При этом нравственность характеризуется и интересует Будду в основе её практического действенного выражения, только как путь спасения. Согласно размышлениям её философско-доктринального обоснования он оставляет в стороне. Относительно одинаков и крайне слабо выражен в учении Будды религиозный элемент. Однако, ученики Будды были позже самоорганизованы в монашеские общины . Община (сангха) наряду с учителем и учением – одно из трёх прибежищ буддиста, но сама община цементировалась во времена Будды общностью духовно-нравственных стремлений и соответствующего образа жизни; составленный им устав общины основывается на прецедентах. Буддизм в его первоначальном содержании не был отгорожен от мира ни философским, ни религиозным панцирем. Это предопределило и предначертало его поразительную пластичность, которая выражена в способности к изменениям и ассимиляции. Согласно разнообразным философским и историческим традициям буддизм стал большими темпами видоизменяться, с течением времени произошло разделение буддизма на ряд течений, из которых наиболее немаловажными стали северный буддизм (махаяна, что переводится как «большая колесница») и южный буддизм (хинаяна, «малая колесница»). В то же время происходило обожествление образа Будды, превращение буддизма в религиозное мировоззрение и практику, именно в таком виде он дошёл наших дней. Буддизм сегодня обладает сотнями миллионов приверженцев и является очень видным и значимым элементом в религиозно-культурном многообразии современного мира. |
|
Христианство и Буддизм. Н.О. Лосский Религия есть высшая, наиболее ценная функция человеческого духа. Все ценное, подвергаясь искажению, может дать отрицательные явления. При этом искажение наивысших проявлений духа дает наиболее тяжелые формы зла: Corruptio optimi pessima. Этому закону подпадает также и религиозная жизнь человека. Поэтому, сталкиваясь с отрицательными явлениями религиозной жизни, многие люди бывают как бы ушиблены религией, в особенности христианством, и, не умея отличить идеальную, Божественную сторону религии от воплощения ее в земной жизни и от искажений ее людьми, начинают отвергать тот или иной вид религии или даже всякую религию и ненавидеть ее. В настоящее время появилось особенно много людей, возненавидевших христианство, борющихся с ним и в этой борьбе противопоставляющих христианству какую-либо другую религию или суррогат религий. Между прочим к числу таких восхваляемых за счет христианства религий принадлежит буддизм. “Предрасположение к буддизму на Западе”, говорит Кожевников, “создалось в значительной степени благодаря философскому учению Шопенгауера и Гартмана, учению, от которого, несомненно, веет холодом буддийского пессимизма. На этой почве, в сочетании с подлинной индусской метафизикой, стали за последнее время появляться опыты построения уже целой религиозно-нравственной системы, предназначаемой для замены собою христианства. Таковы, например, произведения Теодора Шульце “Веданта и Буддизм как ферменты для будущего возрождения религиозного сознания в пределах Европейской культуры” (Лейпциг) и “Религия будущего”, выдержавшая уже три издания. Исходя из положения, будто основы христианства отжили свой век, а христианские церкви держатся только помощью полицейского государства, сочувствием женщин, да силой Дарвинова закона наследственности, автор "озаботился заготовить новые обоснования для более полного и свободного религиозного сознания, приспособленного к потребностям высокой современной культуры". Такие основы, по его мнению, дает индусская философия в ее этической переработке буддизмом". Теософическое общество также не мало содействовало возрождению сочувствия к буддизму в Индии и успеху буддизма в Европе. Особенно потрудился на пользу буддизма полковник Олькотт, основавший вместе с Блаватской Теософическое Общество. В своем "Буддийском катехизисе" Олькотт следующим образом рекомендует проповедуемый им необуддизм: "Из всех религий он один учит наивысшему благу без Бога, продолжению бытия без души, блаженству без неба, святости без Спасителя, искуплению одними собственными силами, без обрядов, молитв и покаяния, без посредства святых и духовенства; он учит, наконец, совершенству, осуществимому уже в земной жизни" (1, 20). По примеру Олькотта ряд других лиц составляли "Буддийские катехизисы". В одном из них, написанном бикшу (монахом) Субгадрой, буддизм прославляется им, как "очищенное от суеверий и детских грез прошлого учение, свободное от догматов и формальностей, согласное с законами природы, с наукой вообще, с дарвиновской теорией развития в частности, одинаково удовлетворяющее запросам ума и влечениям сердца"[5]. Ученый японец Сузуки в своей книге "Очерки махаянского буддизма" говорит: "Если буддизм назовут религией без Бога и без души или просто атеизмом, последователи его не станут возражать против такого определения", так как "понятие о высшем существе, стоящем выше своих созданий и произвольно вмешивающемся в человеческие дела, представляется крайне оскорбительным для буддистов" Такие заявления найдут, конечно, отклики у тех горделивых философов, которые утверждают, что идея искупления противоречит требованиям нравственного сознания, и проповедуют самоискупление. Среди их читателей найдутся поклонники того ламы, который призывает "всех просвященных истинных учеников Будды привести на путь спасения христианских варваров в Европе, еще погруженных в глубину пропасти религиозного невежества". Имея в виду эти горделивые притязания, полезно отдать себе отчет в том, какова сущность буддийского благовестия и сравнить ее с идеалами христианства. Работу эту выполнил Кожевников в своем обширном труде, но при этом он имел в виду не необуддизм и не народную религию буддизма в ее разнообразных видоизменениях, а, насколько это возможно, первоначальное учение, которое можно с большим или меньшим вероятием приписать самому основателю буддизма (1, 38), получившему при рождении имя Сарвартха-сиддхи ("Исполнение желаемого" - в сокращенной форме Сиддхатхи). Сам он усвоил себе, когда стал аскетом, имя Готамо, но наиболее известен он под именем Будды ("пробужденный, осветленный, познающий"), которое означает всякое существо, достигшее высшей ступени духовного развития (1, 339). Время рождения Готамо-Будды точно неизвестно: между 624 и 459 г. до Р. X. Согласно учению некоторых буддистов, Готамо - двадцать восьмой Будда, явившийся на земле в последнем периоде ее развития (1, 235). Изложению книги Кожевникова я предпошлю краткую схему метафизики буддизма, пользуясь для этого трудом "Проблемы буддийской философии" О. О. Розенберга, талантливого русского ученого, погибшего в условиях гражданской войны во время большевистской революции. Розенберг дает "схему основных буддийских учений", более или менее общую "для буддистов всех направлений", пользуясь, кроме индусских, китайскими и японскими памятниками и источниками, которые в его время еще мало изучались европейскими учеными. Исходный пункт и основная задача буддийской метафизики есть анализ человека, именно анализ потока индивидуального сознания. Каждое конкретное переживание, например, радостное восприятие восхода солнца, можно разложить на ряд элементов: в нем есть 1. сознательное чувственное восприятие чего-то объективного - нечто светлое, круглое и т. п., 2. сознательные психические состояния - чувства радости, какие-либо воспоминания и т. п. Отделив путем абстракции чистое сознание, как форму, от содержания сознания, буддийские философы получают следующие три элемента: 1. сознание ("читта" или "виджяна"); 2. психические явления в абстракции от сознания ("чайтта"); 3. чувственное тоже в абстракции от сознания ("рупа"). "Эти элементы объединяются, вступают в связь друг с другом и сменяют друг друга; самый факт или процесс их сплетения, процесс смены и т. п. может быть рассмотрен как новый, четвертый элемент". Далее "кроме самих элементов и их взаимоотношений, т. е. самого факта их сплетенности, необходимо иметь в виду еще один элемент, обусловливающий способ их сплетения; от этого элемента зависит характер личности и характер переживаемого ею внешнего мира. Этот организующий элемент или формирующая сила буддизма называется "карма" (О. Розенберг. Указ, соч. С. 100). "Буддийская философия", говорит Розенберг далее, "не останавливается, однако, на простом разложении человека, видящего солнце, на такие элементы; каждый элемент, в свою очередь, рассматривается, как цепь моментов. Человек, допустим, смотрит на солнце в течение секунды; в секунду же входит большое количество моментов. Согласно трактату Абидармакоша момент равняется 1/75-й секунды, а по другим, например, по позднейшей бирманской традиции, момент-биллионная часть сверкания молнии. Видение солнца в течение секунды, есть поэтому цепь мгновенных действий сознания, световых явлений, явлений круглой формы и т. д." "Так называемая теория мгновенности основана на том, что сознательная жизнь действительно есть поток, беспрерывно меняющий свой состав, то более, то менее существенно, но смена происходит так быстро, что самый процесс смены остается незаметным: мы усматриваем только более длинные цепи моментов, а не единичный момент". "Человеческая личность с ее переживаниями, как предметов внешнего, так и явлений внутреннего мира, оказывается сведенной на поток ежемгновенно сменяющихся комбинаций мгновенных же элементов. Поэтому нет ни солнца, ни человеческого "я", нет ничего постоянного, кроме вихря элементов, слагающихся каким-то закономерным образом; в результате получается сложное явление "человек, видящий предметы и переживающий психическую жизнь", а не человек и предмет отдельно" (Розенберг. Указ. соч. С. 74). Что же такое каждый отдельный элемент, напр, мгновенный элемент радости или светлости или круглости? - Все эти элементы, мгновенно рождающиеся и исчезающие, суть "проявления", "функции" чего-то стоящего за ними, истинно реального, но трансцендентного сознанию и поэтому недоступного знанию (Розенберг. Указ. соч. С. 74). Трансцендентный (т. е. находящийся вне сознания) носитель мгновенного элемента называется в буддийской литературе словом "дарма" (дхарма от корня дхар - носить). Этот термин, к сожалению, имеет еще много других значений; напр., этим же словом "дарма" обозначается не только трансцендентный носитель, но и "несомое" им, данное в сознании мгновенное переживание (Розенберг. Указ соч. С. 90). Различия метафизических направлений в буддизме Розенберг сводит к различию учений о дармах, как трансцендентных носителях. "Школы спорят, - говорит Розенберг,- о том, какова природа той сущности, которая находится за вихрем моментов. Древнейшие (Сарвастивадины) отвечают, что каждый элемент, появляющийся на мгновение, есть функция или проявление субстанции, которая его носит, каждый элемент имеет своего носителя. Такой субстанциальный "носитель" обладает, однако, только одним специфическим признаком, так что не следует здесь думать о европейской субстанции, носящей качества во множественном числе. Таким образом, по терминологии древних школ, поток элементов, сформированный в личность с переживаемыми ею явлениями, есть результат проявления или функции бесчисленного количества непознаваемых субстанциальных носителей, или субстратов, "дарм". "Другие, тоже древние схоластические школы (Шунья-вадины) против этого возражают; если "носители" непознаваемы, то о них нельзя говорить, что они "есть" или "не есть", они лишь проявляются в моменте или перестают проявляться. То, что лежит в основании вихря элементов, - это нечто, безатрибутное, неподдающееся никакому описанию: "слова останавливаются". Это непознаваемое нечто - пусто, т. е. безатрибутно, ибо каждый атрибут, который мы ему приписываем, заимствован уже из бытия иллюзорного, а поэтому к абсолютному не применим. Абсолютное развернуто каким-то непонятным образом". "Третьи, наконец, позднейшие буддисты (Виджнянавадины) говорят опять другое: вихрь элементов, из которых слагается иллюзорная внешняя и внутренняя жизнь, не восходит в каждом элементе к субстанциальному носителю; таких носителей нет, все элементы вытекают из одной общей сущности, из одного вместилища, из "сознания - сокровищницы" (алая - виджняна)" (Розенберг. Указ. соч. С. 75). Каждая из этих трех школ отрицает существование души, отрицает субстанциальное индивидуальное я; живое существо ("сантана") для всех них есть только "цепь" (континуум) мгновенных сочетаний дарм. "Объединенность определенных дарм в одно целое объясняется действием объединяющей силы ("пранти") или сводится к процессу объединения (Розенберг. С. 213). "То, что в данный момент под влиянием "прапти" соединились именно такие дармы, и то, что они распределены именно так, в такую именно личность, с таким именно переживаемым, т. е. форма расположенности дарм - это сводится на новый фактор, на "карму" данного континуума". "Все неодушевленные предметы буддистами считаются за "асантана", за "неконтинуумы", в которых объединяющая и разъединяющая силы не действуют вовсе; предметы, следовательно, не могут считаться самостоятельными целыми. Гора, солнце или камень не имеют самостоятельного продолжающегося бытия, кроме их бытия частью потока сознательной жизни" (Розенберг. С. 214). Не следует, однако, думать, будто это учение есть психологистический идеализм, считащий предметы внешнего мира продуктами сознания. Это не возможно потому, что всякое длящееся бытие, также и бытие субъекта, есть, согласно буддизму, иллюзия. Сам поток индивидуального сознания есть не более, как коллекция мгновенных проявлений множества "дарм" (Розенберг. С. 104, 216). "Абстрактное сознание", говорит автор, "в смысле чистой формы сознания, или сознательности, как таковой, является известного рода центром в общем вихре дарм, и в таком смысле и буддисты допускают возможность назвать его термином "я". Но это "я" есть просто сознательная сторона переживаний, т.е. коррелят сознаваемой стороны, а отнюдь не самостоятельная душа в обыденном смысле этого слова. Сознание, в смысле центрального потока элементов сознавания, называется "читта" или "виджняна", причем оно является единичной дармой, т. е. в каждом моменте, наряду со всеми другими дармами, имеется только одно "читта", сменяющееся новым в следующий момент. "Виджняна" рождается беспрерывно, но не бывает того, чтобы в один момент было два "виджняна" (Розенберг. С. 182). Отсюда ясно, что первобытное учение о переселении душ, сохраняемое простонародной буддийской религией, невозможно в философии буддизма. "Следует иметь в виду", говорит Розенберг, "что не какая-либо "душа" переходит из одного тела в другое или из одного мира в другой, а что данный внеопытный комплекс дарм, проявляющийся в данное время, как одна личность - иллюзия, после определенного промежутка времени, проявляется в виде другой, третьей, четвертой и т. д. - до бесконечности. Следовательно, ничего собственно не перерождается, происходит не трансмиграция, а бесконечная трансформация комплекса дарм, совершается перегруппировка элементов - субстратов наподобие того, как в калейдоскопе те же частицы группируются в новые, более или менее похожие друг на друга фигуры, но все же индивидуально различные, никогда не повторяющиеся. Каждая отдельная фигура до известной степени обусловлена или связана с предыдущей, и в известном смысле влияет на последующую. Процесс такой перестановки происходит в силу безначальной инерции, и если не произойдет приостановки или пересечения движения, то колеса бытия автоматически должны продолжать свое вращение" (Розенберг. С. 229). Не следует при этом субстанциировать карму: "сила кармы, будучи тоже одной из дарм, столь же мгновенна, как и они; распределяются ею, следовательно, дармы одного момента. Образ расположения дарм в данный момент обусловлен, с одной стороны, тем расположением, которым обладал предыдущий момент; с другой стороны, он в свою очередь влияет на подбор дарм в последующий момент" (Розенберг. С. 219). Эту своеобразную теорию, превращающую весь мир, данный в опыте, в раздробленное множество событий, сочетаемых в комплексы неизвестной трансцендентной силой, я бы назвал агноститическим актуализмом. Пытаясь найти нечто, соответствующее ей, в европейской философии, я сравнил бы это учение с феноментализмом Джона Стюарта Милля, сделав одну оговорку, что буддизм не считает данные внешнего опыта психическими явлениями. Изложенные учения имеют значение для буддиста, как основа практической философии, указывающей человеку путь спасения от страданий, состоящий в освобождении от бытия. В самом деле, согласно буддизму, всякое событие, данное в опыте, есть результат "волнения", "суеты" или "помраченности" трансцендентного сознания Абсолютного начала. Это "волнение" есть нечто недолжное, оно неизбежно влечет за собой страдание. "Познавший истину, что бытия не должно быть, ибо оно противоречит сущности абсолютного начала, вступает на путь к успокоению, к Нирване, к окончательному покою. Путем подавления страстей и всего того, что его удерживает в вихре бытия, ему удается "срезывать", т. е. приостанавливать, проявление все большего и большего количества элементов, пока, наконец, не наступит полная тишина, не будет никакого иллюзорного бытия: останется только абсолютная сущность в состоянии полного спокойствия" (Розенберг. С. 77). Когда в потоке сознания живого существа появляется дарма чистой "мудрости", "прозрения" ("праджня"), именно постижение бессмысленности бытия, с этого момента спасение данного живого существа обеспечено: оно может, правда, еще пережить колебания и падения, оно должно пройти через длинный ряд ступеней сокращения проявляющихся в нем дарм, но рано или поздно оно наверное достигнет Нирваны (Розенберг. С. 235), т. е. сверхбытия, о котором нельзя сказать ни того, что оно есть, ни того, что оно не есть, так как оно выше всякого понимания и выразить его словами невозможно (Розенберг. С. 262). Достижение Нирваны не есть "возвращение к какому-то первоначальному состоянию невзволнованности. По учению буддизма, волнение безначально; оно, следовательно, не есть результат грехопадения, оно не грех, который нужно искупить, а первобытное страдание, которое должно быть приостановлено" (Розенберг. С. 257). "Понятие прекращения бытия - страдания существенно отличается от идеи спасения в других системах тем, что возможность его обеспечена именно его безначальностью. Только безначально волнующееся может достигнуть вечного покоя, ибо начавшееся волнение предполагало бы нарушенный покой. Если бы бытие имело начало, если бы оно было создано Творцом или Брахмой, оно, разумеется, тоже могло бы иметь конец, но оно могло бы тогда начаться вновь" (Розенберг, С. 260). Буддийская философия, таким образом, решительно борется против идеи Бога как Творца мира, и не признает учения о спасении мира Богом. В каждом живом существе, выходящем из круговорота бытия, достигает спасения само абсолютное трансцендентное начало. "Спасение существ, таким образом, есть самоспасение истинно-сущего. Будда, спасая существа, спасает себя; существа, спасая себя, спасают Будду; совершенство каждого есть совершенство всех, и спасение каждого есть частичное спасение истинно-сущего" (Розенберг. С. 261). В этом учении о спасении нужно различать древнейший буддизм, хинаяну, и более позднее учение, махаяну, возникшее около начала нашей эры (Розенберг. С. 37). Согласно учению хинаяны, каждое живое существо есть замкнутый вихрь дарм, не способный повлиять на другие существа; поэтому каждая личность может спасать только себя самое. Сторонники махаяны, наоборот, "утверждают связь между отдельными личностями, они внесли идею бодисатвы, т. е. такой личности, которая, дойдя до последнего момента, когда она могла бы погрузиться в вечный покой, отказывается от этого и, продолжая быть, помогает другим личностям достигнуть конечной цели" (Розенберг. С. 78). Подойдем теперь ближе к нашей основной цели - к рассмотрению буддизма для сравнения его с христианством, и вернемся к книге Кожевникова. Христианин утверждает, что мир сотворен Всемогущим и Всеблагим Богом, Который есть само Добро, сама Красота и Истина. Чертами добра, красоты и истины запечатлена также и первозданная сущность мира. Человеческая личность, индивидуальное "я" создано по образу Божию с задачей осуществить путем правильного поведения подобие Божие. Индивидальное "я", т. е. душа, есть существо сверхвременное: свои чувства, желания и поступки, т. е. свою жизнь всякое "я" творит во времени; они возникают и отпадают в прошлое, но само индивидуальное "я" стоит выше времени, оно есть существо, обладающее индивидуальным личным бессмертием. Сверхвременное существо, творящее свои проявления во времени, называется в философии субстанцией или, лучше, чтобы подчеркнуть его активность, можно назвать его словами "субстанциальный деятель". Итак, каждое индивидуальное "я" есть субстанциальный деятель. Согласно христианскому учению, каждая личность, исполняющая в совершенстве заповеди Христа: "люби Бога больше себя и ближнего, как себя", удостаивается обожения по благодати и вечной жизни в Царстве Божием с сохранением индивидуального своеобразия не только духовного, но и телесного. В Царстве Божием каждая личность достигает абсолютной полноты жизни и высших ступеней творчества, индивидуально своеобразного, но в то же время гармонически согласованного с творчеством всех других членов Царства Божия, откуда получается целое, обладающее совершенной красотой и совершенным добром во всех смыслах этого слова. Поэтому каждое индивидуальное "я" имеет абсолютную ценность. Согласно метафизике такого направления, которое можно назвать персонализмом, Бог сотворил мир так, что он состоит весь из личностей, действительных или, по крайней мере, потенциальных, т. е. способных развиться и стать действительными личностями. Бог есть абсолютно совершенное добро и, будучи Всеблагим, Он хочет, чтобы добро было как можно шире распространено. Он творит мир из личностей, потому что личность, правильно использующая свою свободную волю, способна творить жизнь, полную совершенного добра. Абсолютное неприятие мира, желание разрушить мир было бы хулою на Духа Святого и бунтом против Бога. Христианин отвергает в мире только зло, но он полагает, что зло не есть неизбежная принадлежность бытия: оно внесено в мир самой тварью, неправильно пользующейся свободой своей воли. Абсолютному осуждению подлежат только нравственное зло, эгоизм, а зло душевных и физических страданий есть следствие нравственного зла, имеющее глубокий и целительный смысл. Таким образом мир не только в его положительных, но и в его отрицательных чертах есть для христианина нечто проникнутое высоким смыслом. Буддизм, в противоположность христианству, проповедует абсолютное неприятие мира; его идеал - полное уничтожение мира и прежде всего уничтожение личного бытия, самоуничтожение. Мир для него есть результат бессмысленного "волнения", "суеты", поднимающейся непостижимым образом из глубин Абсолютного. Отрицая субстанциальное вечное бытие духа, буддизм видит во всяком существе только обреченность на неудовлетворение и отсутствие положительного содержания. Первоначальные основания этого пессимизма, согласно легенде, таковы. Царевич Сиддхархти (будущий Будда), окруженный восточной роскошью, изведавший всевозможные чувственные наслаждения, резко меняет свою жизнь под влиянием встреч, открывших ему глаза на тщету жизни и указавших путь к спасению: эта была встреча с дряхлым стариком, затем с больным проказой, вид мертвеца и, наконец, беседа с аскетом, который, "убоявшись рождения и смерти", поставил себе целью "избавиться от мира, подвластного разрушению" (Кожевников. С. 385-406). Замечательно то, что, согласно легенде, разочарование жизнью вызвано в душе Готамы зрелищем старости, болезни и смерти, т. е. физического зла, а не наблюдением нравственного зла - гордыни, высокомерия, честолюбия, властолюбия, лживости, предательства и т. п. Испугавшись телесной смерти, Готамо ищет спасения в смерти абсолютной, в совершенном уничтожении бытия. Не будем, однако, руководствоваться легендой. В философии буддизма дано гораздо более глубокое обоснование пессимизма, именно учение о временности, преходящем характере всякого бытия. Но и это обоснование не выдерживает критики. Временный аспект бытия возможен не иначе, как на основе более глубокой сверхвременной стороны того же самого бытия. Христианская религия, с ее возвышенной идеей Бога и высокими формами культа, воспитывает в человеческом чувстве, воле и разуме способность мистического приобщения к абсолютной ценности Божественного сверхвременного бытия " Царства Божия. Далее, обращаясь к нашему несовершенному земному бытию, христианская религия все силы и средства направляет на воспитание любви к Богу и всякой твари, на развитие видения всевозможных видов добра в природе и нашей жизни и отталкивание от зла. Сосредоточение внимания на добре выводит душу из суеты преходящего бытия, заслуживающего уничтожения, направляет ее на абсолютные идеальные ценности и воспитывает способность видения сверхвременной субстанциальности духа, а вместе с тем и возможности вечных благ. Старость, болезнь и смерть оказываются преходящими, сравнительно второстепенным злом: они устранимы при условии совершенного осуществления нравственного добра, и ужас их меркнет перед "красотой и блеском полноты бытия в Царстве Божием. Поэтому мотивы и цели поведения христианина не столько отрицательные - боязнь смерти, страданий и т. п., сколько положительные - любовь к Богу, любовь к тварям Божиим, любовь к добру, истине, красоте, свободе, любовь к творчеству, воплощающему эти абсолютные ценности, любовь к личному индивидуальному бытию как высшей абсолютной ценности, вмещающей в себя все остальные блага бытия. Наоборот, буддизм, отрицая субстанциальность и абсолютную ценность личности, выдвинул на первый план отрицательные цели - страшную цель уничтожения личного индивидуального бытия и мира вообще. В личном бытии буддист находит не источник любви к абсолютно ценному, не центр бескорыстного творчества, а только себялюбие. Достигая просветления, всякий Будда возглашает в "Гимне торжества": Я странствовал долго, я долго блуждал, Прикован к цепям бытия; Рожденье рожденьем я часто сменял, И тщетно разведывал я: Откуда в нас жизнь и сознанье? Откуда страданье? К чему это бремя повторных рождений Для новых смертей и для новых мучений? Но вскрылась мне тайна, в нее я проник: Сознание личного я И жажда его бытия - Вот жизни начало, вот смерти родник! Внемли ж Себялюбье, последнее слово: Ты впредь не создашь мне обители новой! Твоя уничтожена в корне основа; Померкли соблазны твоих обольщений; Достигнуты цели заветных стремлений: Из области смерти и новых рождений В иные мой дух устремляется страны, В края неизменной нирваны. Главным средством для достижения этой заветной цели служат знание и созерцание. "В море рождений и смерти", говорит Готамо, "знание - вот спасительная ладья! Знание- вот светильник, озаряющий мрачный, темный мир! Знание - вот благоприятное врачевание от всех недугов жизни! Знание - вот секира, способная снести прочь все непроницаемые заросли страдания! Знание - вот мост, перекинутый через стремительный поток неведения и похоти! А посему, во всех случаях, мыслью и надлежащим вниманием в слушании человек должен прилежно заставлять рождаться в себе знанию" (Кожевников. С. 150). На вопрос: "Кем правится мир, чьей власти подчинен он, с чьим бытием связан он?" Будда отвечал: "Сознанием правится мир; с сознанием связана судьба мира, могуществу сознания подчинен мир. Поэтому и "пять высших сил борьбы" (сека-балани), Буддой признаваемых, - это "всецело силы интеллектуальные: доверие (к учению, основанному на ясном сознании), энергия мышления, созерцательная сосредоточенность и прозорливость". "Отсутствие себялюбия есть путь добродетели; благожелательность - путь добродетели; правильное настроение (чувств) - путь добродетели; наконец, правильное углубление (понимания, знания) - благороднейший и старший из путей добродетели, древнейший, неразрушимый, непреходящий путь"; и хотя мудрость и правильность не обходит ни одного из этих четырех путей, однако по степени важности последнему отдано очевидное предпочтение". "Впереди, о монахи, шествует правильное познавание". "Освобождение совершается знанием, очищенным справедливостью и вдумчивостью и предшествуемым рассуждением об учении (о дхамме)". "Загрязнение сердца нечистыми шлаками происходит от насилия чувств над рассуждением; оттого и очищение сердца может быть достигнуто только сосредоточенностью мысли на рассуждении, свободном от участия чувств" (Кожевников. Т. 2. С. 228). "Ясно сознательно входит и уходит мудрец; ясно сознательно взирает и отворачивается он; ясно сознательно движется; ясно сознательно носит рясу и чашу; ясно сознательно ест и пьет, жует и смакует, ясно сознательно опорожняется; ясно сознательно ходит, стоит, сидит, спит и бодрствует, говорит и молчит он". Этим путем "очищаются шлаки духа, причиняющие хромоту ему" (С. 245). "Ясно сознательно достигает мудрец бесскорбного и безрадостного состояния, достигает постоянной в настроении, одинаково на все смотрящей, совершенной чистоты и освящения, даруемого созерцанием" (Т. 1. С. 153). "Ни любовь, ни вражда", говорит он, "мне неведомы; ни радость, ни горе не потревожат моего духа" (там же). Согласно учению Иисуса Христа, совершенство - в полноте любви, а согласно учению Будды - в полноте знания (Т. 1. С. 150). И не удивительно: цель буддиста состоит в том, чтобы усмотреть отчетливо, что нет ничего абсолютно ценного и достойного любви, убедиться в том, что всякое бытие не субстанциально, что оно существует только в связи с потоком сознания, и должно быть уничтожено радикально путем самоуничтожения личности (Т. 1. С. 606). Для достижения этой цели, по самому существу ее, высшее средство есть не любовь - любить в этом мире нечего, - а знание, именно постижение ничтожности всего сущего. Кто согласился с этим учением, тот не находит Существа, к которому можно обратиться с молитвой, не находит Существа, которое заслуживало бы такого культа, как богослужение. Однако религиозная потребность преклоняться пред высшим началом в человеке неистребима. Чтобы удовлетворить ее, Готамо предлагает суррогат, то что у буддистов называется "бхавана", именно благоговейное размышление и созерцание, медитация или контемпляция. "Самые разнородные действия", говорит исследователь буддизма Зейденштюккер, "входят в область этой тренировки, проникнутой чисто индусским духом: тут и размышление о конкретных и отвлеченных предметах, тут и упражнения внимания применением то механических, то психических средств; тут и постепенно возрастающие экстатические состояния ("углубления"), с которыми связаны процессы интенсивного созерцания; тут и устранение внутренних к тому препятствий, пробуждение духовных сил, способностей и познаний, да и еще многое другое". Эти упражнения "заменяют в не-теистическом буддизме молитву теистических религий". Первая ступень духовного роста, достигаемая этими упражнениями, есть нравственная дисциплина (адисила), далее - мыслительная, интеллектуальная дисциплина (ади-читта) и, наконец, высшая ступень - дисциплина "высшей мудрости" (адипанна) (Т. 2. С."227, 235-240). Нравственная тренировка есть первое условие духовного роста, но высшее значение принадлежит не ей в этой системе, ставящей целью уничтожение личности. Поэтому о значении и характере нравственной деятельности будет сказано позже, а теперь познакомимся с интеллектуальной тренировкой - адичитта и адипанна. "В основе той и другой лежат процессы интеллектуальные, частью рассудочно-мыслительные, частью - мистически-интуитивные". "Результатом адичитты, выправки высшего размышления, является самато, покой, т. е. временное успокоение духа посредством временного же устранения препятствий к нему. Плодом же адипанны является випасанна (интуиция), т. е. глубочайшее прозрение в основные истины (три существенных свойства бытия и, так называемые, четыре благородных истины), овладение ими и слияние с ними. Самато есть таким образом состояние, еще связанное с настоящим миром (локия), тогда как випассана в своем конечном пункте есть уже нечто трансцендентальное (локутарра)" (Т. 2. С. 237). Она открывает последний путь к нирване, использование которого возможно только для законченного праведника, арьи, архата" (Т. 2. С. 238). Для того, кто прошел нравственную дисциплину (адисила) и вступил в область дисциплины высшего мышления (адичитта) первой задачей было "усвоение способности и привычки к сосредоточению внимания на теме, избранной для обдумывания и созерцания". Для этой цели рекомендуется упражнение в так называемых "касинах". Сущность этих упражнений заключается в сосредоточении внимания на каком-либо предмете; например, в "цветочных касинах" зрение и внимание сосредоточивается на предмете до тех пор, пока у выполняющего упражнение не получится восприятие лунообразного рефлекса, видимого как при открытых, так и при закрытых глазах и не исчезающего даже при перемещении и удалении от объекта созерцания. Продолжая сосредоточение на этом, так называемом, "воспринятом рефлексе" (угга-нимитта), стараются добиться появления второго, "внутреннего" рефлекса (патибага-нимитта), подобного звезде или "луне, выходящей из облаков", но обесцвеченной и неопределенной в очертаниях. Этот второй рефлекс есть "более одухотворенное" отражение первого (Т. 2. С. 253). Производятся эти упражнения с целью создать своеобразное психическое состояние самади, которое можно определить, как "благоговейное настроение, отданное думам о важнейших, священных истинах, созерцанию их и мистическому слиянию с ними" (Т. 2. С. 239). Согласно выражению йога-Сутра (1, 41), это есть "сосредоточение и сосуществование (событие, консубстанциация) воспринимающего субъекта, воспринимаемого объекта и акта восприятия" (Т. 2. С. 238). При появлении этой способности исчезают "пять препятствий, окутывающих дух"; чувственная похоть, зложелание, лень, внутреннее беспокойство и неустойчивость убеждений и настроений (сомнение). Таким образом "достигается "пограничное" благоговейное сосредоточение и прозрение (упачара-самади), пограничное в смысле приближения к области уже непосредственного созерцания высшей истины мистическим, сверхрассудочным восприятием или, по терминологии христианской аскетики, "умным светом" (Т. 2. С. 254). В Висудди - Магги дано подробное описание процедуры одной из касин, "земляной", описание, наглядно изображающее своеобразные приемы "достижения святости", по выражению этого самого авторитетного текста. "Избирающий земляную касину может получить ментальный рефлекс через посредство земли, нарочито для того подготовленной или простой, но с определенными границами, не без них, с порубежными чертами, не без них, размером с небольшой винный бочонок или с блюдо. Этот ментальный рефлекс он должен прочно воспринять, тщательно обследовать и определить, и тогда он узрит благодеяния, которые могут быть извлечены из него и поймет, какая это ценная вещь; проникнувшись высшим почтением и усердно прилежа к ней, он закрепит свой дух прочно на этом объекте, помышляя: во истину этим процессом я буду освобожден от страстей и от смерти. И таким образом, обособивши себя от чувственных удовольствий и от недостойных устремлений, непрестанно упражняя рассуждение и рефлексию, он вступит в первый транс, производимый изоляцией и характеризуемый радостью и счастьем". Для успешности "земляной" касины необходимо соблюдение множества условий: нужно выбрать почву определенной окраски, заключить ее в раму, смочить землю водой, чтобы поверхность ее стала совершенно гладкой и т. п. Затем упражняющийся должен вымести место, выкупаться и усесться на прочно сделанное сиденье на определенном расстоянии от круга касины, так как эти условия обеспечивают правильное созерцание ее при минимально утомительной позе. Усевшись упражняющийся должен прежде всего думать о ничтожестве чувственных удовольствий, мысленно повторяя такие фразы, как: "чувственные наслаждения лишены вкуса" и т. д. Достигнувши таким образом желания стать к ним равнодушным, дабы этим путем избавиться от них и обрести средства перейти за пределы страдания, он должен затем возбуждать в себе радость размышления о Будде, о дхамме (об учении буддизма) и Санге (буддийской общине) и, исполнившись величайшим почтением к этому процессу, как методу, употреблявшемуся всеми буддами и благородными учениками их для овладения равнодушием к чувственным удовольствиям, он должен сделать над собой устойчивое усилие и молвить: "Воистину, этим способом я стану участником в сладостной благодати обособления (изоляции)". Действуя так, постарается он уловить и развить ментальный рефлекс при равномерно и лишь отчасти открытых глазах, ибо, если глаза будут слишком широко открыты, они будут болеть и круг будет виден слишком явственно, ментального рефлекса же не получится; а если глаза будут слишком мало открыты, круг будет слишком неясен и мысли станут вялы, дремотны, и опять не получится рефлекса. Наблюдающий же рефлекс не должен рассматривать света его, ни его особенностей; не различая его окраски от цвета подлинника, он должен закреплять свою мысль на одной преобладающей, характерной черте и ее одну внимательно созерцать. Он должен при этом многократно повторять какое-нибудь название или какой-либо эпитет земли, например, "широкая, объемистая, плодородная"; лучше всего, в виду общеизвестности термина, повторять слово "широкая, широкая, широкая", - созерцать круг должно то с открытыми, то с закрытыми глазами, сотни, тысячи раз и даже более, пока не обеспечится восприятие ментального рефлекса" (Т. 2. С. 256). Существенное значение имеют медитации, освобождающие человека от привязанности к телу. Вот один из образцов такого созерцания: "Тело, связанное костями, облеченное надкостницей и мясом и прикрытое кожей, с виду кажется не тем, что оно есть. Ввнутри него вмещаются кишки, желудок, печень, селезенка, вместе со слизью, слюной, потом, лимфой, кровью, подсуставной жидкостью, желчью и жиром. Девятью путями непрестанно вытекают нечистоты из тела: выделения глазные - из глаз, ушные - из уха, слизь - из носа, мокрота и желчь - изо рта, а пот и грязь- через все тело. .. И вот безумец, водимый невежеством, мнит, будто составленное из всего этого есть нечто прекрасное". "Когда же это тело лежит перед нами мертвое, вздутым и побледневшим, когда уносят его на кладбище, тогда даже ближние не дорожат им". Кроме презрения к телу, эти медитации имеют целью осознать несамостоятельность тела, выработать убеждение в том, что оно есть сочетание стихий, образующееся и вновь распадающееся. Для наглядного живого усвоения этой мысли мудрец "созерцает тело, стараясь представить его себе в том виде, какой оно имеет через день, два или три после смерти, вздутым с синеющими трупными пятнами, в процессе начавшегося разложения" и отсюда выводит заключение: "и мое тело так же организовано, и переходит к созерцанию тела, разодранного псами и шакалами, и повторяет "и мое тело такое же" и возбуждает далее в себе образ того же трупа в виде ободранного, окровавленного скелета... потом - уже распадающимся на отдельные кости, разбросанные там и сям; и опять повторяет: "и мое тело таково же; и я не исключение из общей участи". И настолько глубоко и прочно проникается он этим сознанием, что начинает уже жить без привязанности к своему телу и к чему бы то ни было в мире" (Т. 2. С. 280). "Некоторые до того приобрели навык в подобном превращении соблазнительного в претящее, что и в живом существе им постоянно чудился мертвец. Типичный ответ в этом смысле дал отшельник горы четийской Магатисса мужу одной красавицы - щеголихи на вопрос, не встречал ли он такой женщины на пути: "Мужчину, женщину - ль я встретил на пути, - не знаю; одно тебе могу сказать я: скелет здесь точно встретился со мной" (Т. 2. С. 517). Освобождение от тела и овладение им, пожалуй, еще в большей степени достигается путем контроля над вдыханием и выдыханием. Эти упражнения связаны с тренировкой праны (Т. 2. С. 258). По учению Будды, эта дисциплина есть надежное средство, во-первых, противодействия "непроизвольно возвращающимся дурным, недостойным помыслам и образам алчности, ненависти и ослепления", которые должно "подавлять, сгибать, принижать мучением духа" посредством тренировки дыхания "при сжатых зубах и приподнятом к небу языке". Во-вторых, это - средство подъема в области утонченного сознания. Для успешного упражнения в этой дисциплине Будда рекомендует удаляться в глубь леса или в пустую келью, усесться со скрещенными ногами, выпрямивши стан и предаться созерцанию". Сознательно надо вдыхать и выдыхать, проникаясь следующими мыслями: "вот я вздохну глубоко, а вот - коротко; вот стану вдыхать и выдыхать, с ощущением этого процесса всем телом; а вот стану делать это, ослабляя ощущение связи частей тела друг с другом". И таким образом погружается он в процесс дозора внутреннего тела над внешним; снаружи и изнутри бдит он над телом; наблюдает, как возникает и как проходит оно, и осознает факт: "вот что оно такое, это тело!" И это прозрение становится ему опорой (в дальнейшем духовном росте), ибо оно образумляет и научает жить независимо (от гнета всего материального) и не желать ничего в мире". А далее, - "ощущая блаженство, буду дышать я; ощущая связь мыслей, буду вдыхать и выдыхать я; воспринимая изменчивость и непривлекательность; воспринимая и осознавая устроение (соединение) и отчуждение (распадение), буду вдыхать и выдыхать я" (Т. 2. С. 259). Тренировка праны сопровождается, как видно уже из этих слов Будды, медитациями, имеющими целью внедрить в ум мудреца путем личного переживания убеждение в несубстанциальности и ничтожности всего сущего. Первая группа медитаций, подробно описанная выше, направлена на тело и задается целью развенчать его и воспитать презрение к нему; далее, медитации направляются с целью такого же развенчания на душевную жизнь человека - на чувства, затем на мысли и вообще сознание; наконец, четвертая группа медитаций посвящена развенчанию всех явлений вообще (Т. 2.С. 633-636). Здесь на личном опыте мудрец приходит к убеждению, что "все это мимолетно, эфемерно, несущественно"; "ничего субстанциального, самосущего, довлеющего, удовлетворяющего! Только одни мимо-бегущие тени!" (Т. 2. С. 281). Освободившись таким образом от влечения к бытию, мудрец вступает далее на "благородный восьмеричный путь" созерцаний, связанных с экстазом и переживанием блаженства. Радость, испытываемая в этих экстазах, не есть чувственное удовольствие; она "возникает из восприятия не ощущений, а идей; по восприятии же проникает собою весь организм, но в виде не чувственного, а духовного восторга, испытываемого, однако, и всей физической стороной организма" (Т. 2. С. 243). Сначала мудрец проходит четыре ступени погружения в область форм без влечения к ним, откуда возникает переживание блаженства; далее он вступает уже в область сверхрассудочного экстаза, именно осуществляет четыре погружения в мир бесформенности. В Ангуттараникая даны следующие пояснения смысла этих четырех высших ступеней экстаза: "вследствие полного самоподъема над (иллюзорными) восприятиями телесных форм; вследствие (должного) устроения реальных восприятий и в силу того, что созерцатель уже не имеет в себе в настоящей (окружающей его) действительности восприятий множественности вещей, он в процессе усвоения положения "простанство безгранично" достигает и сам безграничной области пространства. Возвысившись же и над этой областью, он в представлении "безгранично сознание" подъемлется в неограниченную область сознания; в силу же полного самоподъема над нею он, в итоге этого процесса (выражающегося положением "нет ничего"), вступает в область небытия; поднявшись же над нею, достигает области тождества восприятия (различения, определения) и невосприятия (неразличения) или же безразличия сущего и не-сущего (по отношению к находящемуся в данном состоянии), - что и составляет последнюю, восьмую джану, или наибольшее, "глубочайшее углубление" (Т. 2. С. 264). Здесь совершается вступление в область совпадения противоположностей. Освободившись от всех форм, субъект стоит на границе полного освобождения также и от своего личного индивидуального бытия. "Этот нигилистический итог", говорит Кожевников, "обозначается в системе медитаций термином заключительной, всеобъемлющей, девятой самапатти, нирода-самапатти, осуществленное прекращения, а по другой терминологии, прекращения как мысленного восприятия, так и ощущения". Эта девятая степень экстаза, наблюдаемая со стороны, "представляется в виде каталептического, бессознательного состояния, подобного глубокому сну, длившемуся иногда до семи дней, с прекращением, как полагали, всех телесных и духовных отправлений и с приближением к смерти, от которой это состояние отличается сохранением некоторой внутренней теплоты и возможностью возврата к обычному функционированию организма" (Т. 2. С. 266). "Святые", говорится в Виссудди-Магга, искони ценили этот транс прекращения (транс остановки всех духовных) процессов, "всегда почитали его как бы за нирвану, испытываемую уже в настоящей жизни, и потому способность достигать этого состояния, даруемая в награду за мудрость, обретаемую на путях праведности, именуется благословением, стяжаемым на оных путях" (Т. 2. С. 270). Итак, говорит Кожевников, усилия буддийского мудреца "все время направлены не к обнаружению положительной основы фактов и явлений жизненного процесса, не к выяснению того, что есть "вещей истина, а к разоблачению их отрицательных качеств, к выяснению призрачности и обманчивости вещей, действий и явлений, составляющих содержание жизни. Всюду в этой сложной, полуфилософской, полумистической работе пробивается непрерывное стремление не к величайшей реальности, не к абсолютному бытию, к Богу, а к уменьшению интенсивности бытия, к слиянию саморазлагающегося и искусственно разлагаемого живущего существа с абсолютным небытием, с нирваной. Это не рост духа, составляющий цель христианской аскетики и мистики: это, выражаясь подлинными словами буддизма, "прекращение духа". "Достижение" полагается здесь не в умножении данного уже жизнью, а в утрате его; задача, - опять в полную противоположность христианству, - здесь не в очищении и обожении чувств, желаний и мыслей, а в полном "угашении" их. Аффекты мирские не сменяются жаждой небесного, вечного, божественного; любовь земная не перерождается в любовь божественную, и личность, подвизающаяся по стези мудрости и праведности, в конце концов сливается не с Богом, "наполняющим всяческое во всем", а со всепоглощающим Ничто". "Сообразно с этой основной тенденцией буддийского экстаза, от него веет леденящим холодом, настоящим дыханием смерти. Здесь нет пылкости мистики католической, столь склонной к сентиментальному млению, и граничащей нередко с чувственностью. Нет здесь и здоровой теплоты того "умного света", что озаряет горние выси аскетики восточно-православной. Это не парение духа, окрыляемого любовью; это хладнокровный самоанализ духа, безжалостная вивисекция его, напряженная работа "ясного сознания" вплоть до самоумерщвления даже и сознания. И во всех этих рассуждениях, выдумываниях, "углублениях" и "достижениях" - ни разу ни единого воспоминания, ни единого слова о любви. Но зато, сколько забот, дум, грез об "угашении", о "прекращении". Одолеть роковую карму единственным возможным путем - уходом из-под мертвой петли причиняемых ею перевоплощений - вот конечная цель системы экстатических переживаний" (Т. 2. С. 267-270). Мудрец, овладевший с помощью описанных упражнений всеми функциями своего тела и духа, приобретает магические, оккультные способности. "Оставаясь целостной (единой) личностью, он может становиться множественным (т. е. становиться несколькими личностями единовременно) или же, ставши множественным, снова становиться единоличным; он может быть видимым и невидимым; не чувствуя препятствий, он, как бы по воздуху, переходит по другую сторону стены или холма (перемещаясь сквозь них), он проникает сверху вниз через твердую почву, словно как через воду; ходит по водам, как по суху, перемещается со скрещенными ногами по небу, как птицы; даже луну и солнце, столь мощные, он осязает руками; не расставаясь с телом, он подъемлется даже до неба Брамы. Явственным, небесным ухом, превосходящим человеческий слух, он слышит людские звуки, близкие и дальние... Проницая своим сердцем сердца других существ, других людей, он знает их, он различает их и их свойства. Он восстанавливает в памяти свои прежние временные состояния дней минувших хотя бы до ста тысяч прежних рождений, за многие зоны диссолюции и эволюции... во всех видах (бытия своего) и во всех подробностях... Чистым небесным оком видит он падение и восстание существ, видит, как они переходят из одной формы бытия в другую и воплощаются в другой" (Т. 2. С. 288). Однако надо заметить, что "Будда, веря в возможность и действительность магических сил, ценил их не очень высоко и не поощрял необдуманного и безтактного применения их" (Т. 2. С. 288). Единственная и последняя цель, к которой он стремился, - уничтожение мира и личного бытия: "иссякла, побеждена жизнь, закончена святость, совершен подвиг: мир этот более не существует!" Такова, восклицает Готамо в одной из главных своих речей, очевидная награда подвижничества! Иной высшей и желательной награды нет! (Т. 1. 154). Предвкушение вечной смерти наполняет душу буддийских аскетов непонятным нам восторгом: Сгорела я; истлела я; Угасла я; остыла я, И навсегда, и навсегда. И не воскресну никогда! Мир вечных смен, - разрушен он, И к бытию нет возвращенья. Все бытие истреблено И вытравлено все оно. Жизнь выжжена вплоть до корней И не вернуться снова к ней. Учение о перевоплощении, казалось бы, требует признания субстанциальности я. Мы видели, однако, выше, что буддизм признает не переселение душ или перевоплощение субстанциальной души, а перегруппировку элементов (дарм) в новое живое существо под влиянием кармы, которая связывает предыдущий индивидуальный поток сознания с последующим, причем и сама эта карма есть безличное начало. Современный ученый-буддист японец Сузуки выражает сущность мира в следующих четырех положениях: "1. Все временно, преходяще; 2. Все пусто (бессодержательно); 3. Все лишено личной основы (самоосновы); 4. Все - таково, каково оно есть (каковым оно может быть)" (Т. 1. С. 38). В таком мире человек, ищущий спасения от зла, не может найти благодатной помощи свыше; в борьбе за добро он предоставлен одним своим собственным силам и прежде всего своей способности постигнуть истину ничтожности бытия. "Никто, братия", говорит Готамо, "не поведал мне благородной истины о скорбях, но сам я постиг ее", и ученикам своим он советует "не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе; сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя..., не прибегая ни к какому внешнему убежищу... достигайте высочайшей вершины" (Т. 1. С. 175). Слова Апостола Павла "знание надмевает, а любовь назидает" (1 Кор., 8:1) прекрасно характеризуют противоположность между христианским и буддийским учением. Будда хвалится своим разрывом с прошлым: "мною самим познана истина; мною самим достигнуто освобождение; мною самим все сделано; мною самим все закончено" (Т. 2. С. 21). Наоборот, Христос, говорит Кожевников, "не выдает возвещаемого Им учения за исключительно Свое и всецело новое. Это - учение Отца Его, это - истина вечная, только полнее в новом свете Им вскрываемая. Он пришел не разрушить, а исполнить Закон, углубивши, расширивши, восполнивши его. Он не разрывает связи с прошлым, ссылается на Своих провозвестников, на "уготовлявших путь Его" (Т. 2. С. 211). В христианском сознании все ищущие совершенства Отца своего Небесного мыслятся, как единое целое, как органы единого тела Церкви, как ветви на лозе: "Я - лоза, вы - ветви. Пребывающий во Мне -и Я в нем, - тот приносит много плода", говорит Христос. (Ин. 15:5). В учении Будды, наоборот, все живые существа мыслятся обособленными и предоставленными самим себе. Не только здесь нет учения о мистическом единстве Церкви, но и учение о единении с Богом решительно отвергается. "Верить в общение и единение с Верховным Брахманом, незримым и непостижимым, о котором неизвестно, где он, откуда взялся он и куда девается, значит верить в возможность для низших существ познавать несуществующее в действительности". Не ясно ли, семь раз подряд повторяет Готамо, что "самые речи о ложном и правильном, спасительном пути к Божеству и о состоянии единения с Брамою, которого никто никогда лицом к лицу не видел, суть речи глупые, дурацкие речи!". "Сравнивая эти шутки", говорит Кожевников, "с величавыми выражениями в Упанишадах стремлений древне-индусской мысли к неведомому и неопределимому Божеству, нельзя не удивляться духовной неспособности творца буддизма к мистическому восприятию религиозного начала" (Т. 2. С. 199). "Не удивительно, продолжает Кожевников, что такое настроение у большинства не могло продержаться долго; с ранних пор среди учеников того, "кто совершенно освободился от стремления к миру Богов", пробудилась реакция в эту отвергнутую им сторону и стал тотчас же зарождаться культ нового Божественного существа, самого Будды. Воспоминания о нем, почтительное отношение к его речам и деяниям, к местам, связанным с важными событиями его жизни, к мощам его и изображениям, а затем молитвенные обращения к нему, хвалебного, благодарственного и просительного свойства, и, наконец, принесение ему "невинных" жертв, цветов, плодов, риса, благовоний, - все вместе взятое постепенно сформировалось в настоящий культ Будды и умножило обряды, празднества и торжества в духовном быту его последователей". "Области, примкнувшие к системе Махаяны, были затронуты склонностью к ритуальному значительно сильнее, чем страны южные, оставшиеся более верными первоначальной простоте обряда" (Т. 2. С. 219). Но именно потому, что южный буддизм принципиально не отозвался на потребность религионизировать учение Будды, он после временного расцвета не смог выдержать борьбы с браманизмом, джайнизмом и исламом и вымер в Индии (кроме Цейлона, Сиама и Бирмы). Зато буддизм северный, по выражению Рис-Девидса, отдался неудержимой и "ненасытной жажде сердец создавать богов, чтобы заселять ими области опустевшего индусского пантеона" (Т. 2. С. 44). "Учение, призывающее к спасению всех, но без веры в Бога, а силою одного человеческого рассуждения и одной человеческой воли, не только не может быть принято всеми, но, именно по своей иррелигиозности, отвергается в своем подлинном виде большинством и замещается, за отсутствием веры в единого Бога, суевериями грубого язычества. Не будет парадоксом сказать, что буддизм оказался популярным и живучим лишь благодаря искажениям своего подлинного учения, лишь вследствие сознательной или несознательной измены своему идеалу и замены его иным" (Т. 2. С. 744). Вернемся опять к учению первоначального буддизма и познакомимся с нравственной стороной его. Буддийская литература богата высокими учениями и трогательными поэтическими повестями о любви, самопожертвовании, жалости ко всему живому, непротивлении злу злом. "Любовь к злому, даже к порочному превращает несчастье в счастье: вот что разрывает цепи зла", читаем мы в одной из повестей о прежних воплощениях Будды (джатака). В повести "О выборе наилучшего" рассказана история бодисатвы, царя бепаресского, который, подвергнувшись нападению бунтовщика - министра, соединившегося с шайкой разбойников, приказывает открыть перед своим врагом ворота столицы и не сопротивляться ему. Ввергнутый своим врагом в тюрьму, он вызвал "в сердце своем новые чувства любви к злодею и достиг экстаза любви". И чистый пламень этот объял, наконец, закостенелую душу: полный раскаяния преступник спешит к миролюбцу, молит о прощении: "бери назад свое царство; твои враги отныне - мои враги". Бесчисленны в буддийской литературе рассказы о жалости людей к животным и даже животных друг к другу. Бодисатва - отшельник отдает себя на съедение голодной тигрице, собиравшейся растерзать своих новорожденных детенышей. Царь Шивп отдает сосать свою кровь болотной мошке. "Мудрый заяц Шаша", встретив голодного брамина (бога Сакка в виде брамина) и, не имея, чем угостить его, "решает накормить гостя своим мясом; но зная, что брамин не отважится сам убить его, он просит развести костер и, предварительно отряхнувшись, "чтобы, - не ровен час, - не погубить мелкую тварь в шерсти своей, прыгает в огонь, приглашая гостя изжарить его и съесть". Вспомним, однако, что, согласно буддизму, никакое бытие не имеет цены, и конечная цель есть уничтожение личности; отсюда следует, что добродетель не есть абсолютная ценность; она только средство для достижения конечной цели - освобождения от жизни. "Храните добродетель, монахи!" - говорит Будда, "храните чистоту в делах и поведении, и от заботы о малейшем проступке шествуйте дальше, шаг за шагом: от выполнения совершенной добродетели переходите к борьбе за обладание внутренним покоем духа, к созерцанию, к всепроникающему прозрению, к уединению в пустых кельях, к переживанию святых освобождений, к возвышению над миром форм, к достижению магических сил идди, и, наконец, к полному освобождению". "Не возможно переплыть реку (избавления) при поведении нечестивом; но и чистого поведения недостаточно для этого. Конечная цель достигается только чистым знанием" (Т. 2. С. 302). Поэтому, хотя "безнравственность позорна и является пятном и в этом мире, и в ином", тем не менее "есть пятно еще худшее из всех - неведение; вот тягчайшее из пятен" (Т. 2. С. 296). Когда Готамо возвестил ученикам близость своей кончины, один из них, Ананда, умоляя его воспользоваться способностью всякого будды продлить свою жизнь "ради блага и счастья великого множества людей, из жалости к миру, на благо, пользу и благополучие людей и богов", - Готамо наотрез отверг такую просьбу, указавши, что он уже "развил, выполнил и перевыполнил до крайних высот четыре пути святости" и вменил ученику, знавшему это, в вину просьбу продолжать вращаться в области доброделания и благодеяний; такой призыв вернуться к "делам" он обозвал, "если не прямо неверием, то все же маловерием" (Т. 2. С. 306). "Рожденье, скорбь и старость превозмог я", говорит мудрец, достигший высших ступеней, "к чему теперь мне добрых дел свершенье? Возвышенный! Отныне возвещай мне только знанье" (Т. 2. С. 212). И в самом деле, если конечная цель есть избавление от перевоплощений и совершенное уничтожение личного бытия, то добродетель низводится до степени лишь подготовительного средства, которое на известной ступени совершенства грозит стать помехой на пути к цели. Действительно, дела, совершенные в настоящей жизни, необходимо приводят к новому перевоплощению. Дурные дела невыгодны: они приведут к новому воплощению с увеличенными страданиями. Но и добрые дела приводят к новому воплощению; правда, они обеспечивают "небесные радости", но Готамо назвал эти радости "презренными", потому что они не вечны и не избавляют от возрождений. Беседуя с купцом Судантой, прозванным за дела милосердия "опорой сирот и нищих", Будда хвалит его за добрые дела, говорит, что они "способны возвести на небо и дать участие во всех его блаженствах". "Но все же", продолжает он, "стремиться к этому блаженству есть великое зло, ибо всякое пожелание, возрастая, приносит скорбь. Итак, упражняйся в искусстве отречения от поисков чего бы то ни было, ибо отречение от всякого желания и есть счастье полного покоя. Не желай же ничего: ни жизни, ни ее противоположности... Мы должны достигнуть пассивного состояния, немышления, конечной пристани, нирваны, покоя. Ибо все пусто. "Нет ни личного "Я" (души), ни места для него. Весь мир подобен грезе". "Деятельное человеколюбие принесено в буддизме в жертву личному освобождению от ига бытия" (Т. 2. С. 25). "Как бы велики ни были нужды и потребности других, никто не должен ради них жертвовать своим собственным спасением"], находим мы в Дхаммападе, в своде буддийской морали. "Нет ничего дороже самого себя", и только потому, что "свое "Я" одинаково дорого каждому, из любви к своему собственному дорогому "Я", не обижайте никого". В противоположность Христу, сводящему весь нравственный закон к любви, вопреки Апостолу, возвещающему, что "любовь не знает страха", Дхаммапада внушает: "От любви родится печаль, от любви родится страх; для того, кто вполне освободился от любви, не существует печали, ни тем более страха... Не любите же ничего!" В это "ничего" по смыслу учения и по его подлинным выражениям, как сейчас увидим, включено и "никого". "Только не имеющий более связей с людьми стряхнул с себя и те связи, которые мог бы иметь с богами; только тот, кто вполне и ото всего отрешился, - вот кто мудрец, законченный человек". "Мудрец не зависит от добродетели и от святых дел; он не руководствуется ими"; "чистота основана не на добродетели и не на святых делах..., отложивши их в сторону и не обращаясь ни к чему другому, надо пребыть спокойным и независимым, не желая вообще какого бы то ни было существования". "Снова и снова", говорит исследователь индусской культуры Л. фон Шредер, "со стороны буддизма - отрицание; со стороны христианства - утверждение. Любить, страдать и, наконец, жить - вот обязанность, вот желание истинного христианина! Не любить, не страдать, не жить - вот идеал буддиста. Здесь во истину выясняется глубокая и широкая, не переходимая пропасть, разъединяющая буддизм с христианством". Отрицательный характер буддийского идеала, именно отрицание ценности всякого бытия и проповедь уничтожения личности, понижает ценность также и всех нравственных понятий, вырабатываемых буддизмом. Симпатия ко всему живому приобретает характер не положительной любви к положительному, ценному содержанию живого существа, а только жалости к чужому страданию и стремления избавить все живое от страданий. Поэтому прав Бартелеми Сент-Илер, утверждающий, что "буддизм есть милосердие без любви". Отсутствие положительной цели придает нередко самим актам самопожертвования уродливый характер непропорционального соотношения ценностей. "Жалостливый царь уступает простому поденщику полцарства, чтобы избавить его только от труда в знойный полдень". Царевич Виш-вантара уступает демону двух сыновей и "радостно смотрит, как тот пожирает их, точно пучок овощей". Для буддизма характерно, говорит Кожевников, "настойчивое внушение жалости к животным, доходившее иногда в буквальном смысле слова до оцеживания комара (напомним джатаку о попавшем на кол за насаживание комара на иголку), и в то же время непозволительное равнодушие к страданиям людей, выразившееся если не в полном отсутствии помощи, то во всяком случае в очень малых и редких проявлениях этой помощи". Отрицательным характером идеала объясняется также отсутствие связи с умершими и проповедь какого-то нечеловечески бесчувственного отношения к ним, а иногда и отвратительные приемы "отучения от скорби" по ним. Так, например, бодисатва отрезвляет царя Ашоку, неутешного в потере красавицы жены тем, что "показывает" ему, как его бывшая подруга, перевоплотившись в червя, предпочитает ему нового друга, товарища по навозной куче, прежнему, самому Ашоке, славному повелителю мира". Женщина, носительница новой жизни, ненавистна буддизму, стремящемуся уничтожить жизнь. "Ни одна религия", говорит Кожевников, "не отнеслась к ней столь враждебно и отрицательно, как буддизм. Для него женщина не только не равноправна с мужчиной в мире духовном, как в христианстве; она даже не низшее существо сравнительно с мужским, как в магометанстве; она, независимо от сравнения с мужчиной, по самой природе своей, с буддийской точки зрения - существо низкое, умственно и нравственно глубоко несовершенное и, что хуже всего, неисправимое, безнадежное для достижения законченной мудрости и полной святости, а следовательно, неспособное к спасению до тех пор, пока сохраняет свою отличительную черту, женственность", т. е. пока не перевоплотится в мужчину. "Во многих религиях и во всякой аскетике женщина считалась источником соблазна, но в других религиях, христианской в особенности, она не обречена неизбежно и навсегда оставаться таковою; из соблазнительницы она может стать подвижницею и даже помощницею и руководительницею спасения других. Буддизм же отрицает за нею все это: женщина, как женщина, поскольку она женщина, стоит вне области спасений, она не сотрудник и не соучастник его, а враг, естественный, могущественный и неисправимый. Отсюда и отношение буддизма к женщине не просто равнодушное или безучастное, не только пренебрежительное, а действительно враждебное" (Т. 2. С. 501). Вот священные тексты: "Женщина - очаг страстей, претящий и презренный", "самое нечистое, самое чудовищное из существ", "подлинный ад для живых существ". "Ненасытна в половом акте и в рождении; до самой смерти не чувствует она отвращения к ним и пресыщения ими". Этот приговор, приписываемый самому "Всеведущему", "буддийская словесность не устает повторять, разрабатывая мотивы ее во множестве повестей, изображающих гнусность женщины". Красота в положительном смысле не существует для Будды: он не видит в ней отражения божественного совершенства, не понимает ее художественной ценности и еще менее ее гармонию с нравственной чистотой и со здоровым духом. Она для него всецело заманчивое марево чувственности, влекущее не в бездну греха, к чему довольно равнодушен Будда, а в омут привязанности к жизни. Вот почему взывает он: "Отбросьте объекты пяти чувств; отбросьте прекрасное чарующее; избегайте образов, кажущихся прекрасными, ибо их сопровождает страсть". Не только губительна красота, но и лжива, потому что призрачна: под прекрасным таится безобразное, претящее. "Одни безумцы обманываются видом красоты; мудрец же прозревает тщету всех этих воображаемых прелестей, взирает на них, как на сон, как на марево, как на грезу фантазии". Отрицательный идеал буддизма, уничтожение мира, естественно связан с пренебрежительным отношением к жизненному труду, тогда как христианство, наоборот, высоко ценит труд, начиная с его простейших физических форм. Особенно отрицательно относится буддизм к земледелию: "ничто так не гибельно для насекомых, как земледелие"; поэтому "Великий Мудрец воспретил монахам заниматься земледелием"; но "монахи дозволяют другим беспрепятственно обрабатывать свои обложенные податями (монастырские) земли и получают лишь некоторую часть продуктов с них. Таким образом, они ведут образ жизни праведный, избегая мирских дел и оставаясь чистыми от вины уничтожения живых существ пахотой и орошением полей". "Как в вопросе о труде, так и в отношении ко всем другим задачам социального строительства и усовершенствования социальных отношений, буддизм оказывается или безразличным или даже вредным, воспитывая в своих последователях безучастность к историческому процессу. Американский философ Пратт в статье "Единство буддизма" восхваляет пластичность буддизма и способность его к развитию. Как и все великие духовные течения, буддизм действительно обладает чрезвычайной приспособляемостью. Однако стать подлинным светочем жизни он не может до тех пор, пока идеалом его остается уничтожение мира и индивидуального личного бытия. Современный ученый Taiye Kaneko утверждает, что в составе буддизма есть идея "замещающего страдания", она связана с учением о бодисатве. Такое частичное приближение буддизма к христианству существует, и все же указание основного недостатка буддизма остается в силе: отрицая ценность личного бытия, буддизм Махаяны, как и Хинаяны, имеет конечной целью не преображение жизни, а только уничтожение ее и потому не обладает положительной мерой для правильного учения о степенях достоинства положительных ценностей. Сопоставляя буддизм с христианством, поставим его в наиболее благоприятное положение. Поймем Нирвану не как Абсолютное Ничто, т. е. совершенную пустоту, а как Сверхчто, т.е. как начало, обозначаемое термином Ничто лишь в виду несоизмеримости его со всяким мировым бытием, со всяким мировым "что". Иными словами, поймем Нирвану так, как понимают многие христианские богословы и философы, даже Отцы Церкви, Бога - в Его глубочайшей основе, развивая "отрицательное богословие". И при этом условии останется, однако, непроходимая пропасть между христианством и буддизмом и сохранятся отрицательные черты буддизма или обнаружатся новые недостатки его. Христианство есть теизм: оно утверждает, что Бог есть Творец, а мировое индивидуальное личное бытие есть тварь; первозданное тварное бытие абсолютно ценно и не подлежит уничтожению; даже и приобщаясь к Божественному бытию в Царстве Божием, человеческое "Я" остается индивидуальным "Я". Наоборот, буддизм, если понять Нирвану, как Сверхчто в духе христианского "отрицательного богословия", можно назвать пантеизмом (термин этот неудачен этимологически, потому что Нирвану буддисты не называют словом Бог). Проповедуя уничтожение личности и мирового бытия, буддизм остается, с точки зрения личности и мирового бытия, чисто отрицательным учением: погашенная личность становится чистым ничто и, следовательно, не участвует в положительном Сверхчто Нирваны. Можно однако попытаться утверждать, что уничтожение личной жизни есть положительное приобщение личности к Нирване. Когда один из учеников Будды, Малункяпутта, добивался у него разрешения недоумения: "существует ли Совершенный после смерти или нет?", Готамо ответил: "Нельзя сказать, что он существует, но нельзя сказать, что он и не существует; нельзя, наконец, сказать что он и существует и не существует после смерти". Здесь, очевидно, мы попадаем в область, стоящую выше закона противоречия и исключенного третьего, в область металогического. Но в таком случае совершенствующаяся личность есть в каком-то смысле само Абсолютное, и уничтожение личной формы бытия есть какое-то самоосвобождение Абсолютного, выражающееся в горделивых заявлениях Будды о самоспасении. Здесь перед нами вскрываются кощунственные с религиозной точки зрения и философски непоследовательные учения пантеизма, - чрезмерное сближение мирового бытия с Абсолютным, и внесение недостатков ("суеты", "волнения") в само Абсолютное. Нам остается в заключение познакомиться с сопоставлением буддизма и христианства, завершающим ценный труд Кожевникова. "Ни до буддизма", говорит Кожевников, "ни после него никто не отваживался на столь решительный шаг в сторону полной безнадежности; один буддизм осмелился совершить этот шаг, и в этом - трагическое величие и воспитательная ценность его подвига, не превзойденного в своем роде в истории. Не в этом ли, гадаем мы, и его провиденциальная миссия в ходе развития религиозного опыта человечества. Так и кажется, что в сложном и таинственном плане Господнего мироводительства, рядом со столькими поисками Бога, Истины, Правды, Красоты и Блаженства, и со столькими упованиями, окрылявшими дух человеческий в трудных путях этих поисков, необходимо было явить во всей безотрадной силе еще одно течение: отказ от самых поисков всего этого, вследствие полного отсутствия упования в торжество чего-либо положительного. К устам человечества, жаждавшего спасения жизни, но столь часто напоявшегося хмельною чашей чувственных вожделений и призрачных упований, прежде чем принять Чашу Спасения с призыванием в помощь Имени Бога Спасающего, надо было, ради научения противоположностью, приблизить чашу отчаяния, почерпнутую из мертвящих струй нирваны, дабы тем осязательнее и убежденнее понять и принять истину речения Спасителя: "без Меня не можете творить ничего" (Ин. 15:5). "Глубже и живее кого-либо буддизм познал правдивость трагического вопля страждующего человека: "Немощен есмь" и в этом - всемирно-историческая заслуга буддизма, в воспитательном, показательном смысле не изжитая еще и поныне. Но буддизм совершенно не познал второй истины, немедлено следующей за первой; он не расслышал или не захотел услышать второго клича души человеческой, клича верующего во спасение благодатию Божией: "Помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание" (3-я молитва пред святым причащением, Симеона Метафраста). В лице буддизма тварь забыла и отринула своего Творца и Промыслителя, поставивши на Его место роковой, бессмысленный круговорот будто бы безначальных, слепых космических сил. Отсюда неутешная, неисцелимая скорбь буддийского пессимизма, этого законченного воплощения "души, не имеющей упования". Утративши веру в Творца, она потеряла ее и в себя, а неверие и гордость помешали ей примкнуть и к третьему кличу "души болезнующей, помощи и спасения требующей": "Творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения" (2-я молитва пред святым причащением, Василия Великого). "Твой я, спаси меня" (Псал. 118:94)". "Ясно и величаво выступает здесь ободряющая, оздоровляющая, духовная сила христианства. В полную противоположность отрицательному буддийскому взгляду на жизнь, в христианстве высшее благо совпадает с вечною жизнью в Царствии Божием. И если жизнь представляется сравнительно малоценною, то потому лишь, что впереди - сокровище неизмеримо ценнейшее. Не принижая достоинства даже несовершенной земной жизни, - напротив, сводя небо на землю для свершения воли Отца Небесного здесь, как и там, и тем освящая и само земное, христианство от несовершенного, бренного, человеческого и природного, тварного обращает взоры к более и выше, чем естественному. Христианское разумение обретает это высшее в Боге, как абсолютном вечном бытии и абсолютной любви. Отказавшись от горделивых и противоречивых притязаний на спасение путем самоуничтожения, христианин прибегает к Богу - Любви, который устами Кроткого и Смиренного сердцем зовет нас: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные...и найдете покой душам вашим" (Мф. 11:28-29), покой не нирваны, небытия вечного, а жизни в Боге, жизни вечной". В дополнение к книге Кожевникова я позволю себе высказать несколько соображений о буддизме. Нирвана буддистов есть высочайшее сверхмировое начало, столь отличное от нашего бытия, что никакое понятие, заимствованное из области мира, не применимо к нему. На всякий вопрос, есть ли Нирвана личность, разум, бытие и т. п., необходимо отвечать: "Нет". Таким образом, Нирвана есть Божественное Ничто в том смысле, что она есть нечто невыразимое в наших понятиях. Религиозный опыт, сосредоточенный только на Несказанном, на Божественном Ничто, легко может привести к безличной пантеистической мистике. Роковым образом приходит к этому результату буддизм, начинающий свои упражнения для погружения в Нирвану под руководством ложных метафизических учений и болезненных настроений, которые бесповоротно отвращают от мира и личного бытия. Христианский мистический опыт тоже усматривает в Боге невыразимость Его в наших понятиях, так что Бог есть Ничто, как этому учит, так называемое, отрицательное (апофатическое) богословие, систематически выраженное в христианстве в творениях Дионисия Ареопагита. Но Дионисий Ареопагит не останавливается на этом отрицательном результате: он поясняет, что Божественное Ничто есть Сверхчто: Бог не есть личность в нашем смысле ограниченного бытия, но это не значит, что Он безличен, Он есть Сверхличное начало; Он есть даже не бытие, подобное нашему бытию, Он есть Сверхбытие и т. п. Отсюда открывается путь к положительному (катафатическому) христианскому богословию. Если Бог сверхличен, то Ему доступно и личное бытие. Мало того, Он, будучи Единым Богом, трехличен; Он есть сверхлично-личное начало. Противоречия между отрицательным и положительным богословием здесь не получается: если Божественное Единое начало выражается в трех Лицах, то это значит, что Его личное бытие глубоко отлично от нашего ограниченного единоличного бытия и термин личности мы применяем к Нему лишь по аналогии, указывая на то, что все ценное, имеющееся в личном бытии, есть в Боге, однако в такой превосходной степени, что все же нет тождества между понятием тварной личности и понятием Лиц Божественной Троичности. Их отличие от нас есть "металогическая инаковость", согласно понятию, выработанному С. Л. Франком. Перед нами встает теперь вопрос первостепенной важности для всего мировоззрения и для всей нашей жизни. Опираясь на свой мистический опыт, одни лица говорят, что Сверхмировое начало есть Сверхлично-Личное, а другие говорят, что в нем вовсе нет личного аспекта. Кто прав - представители сверхлично-личной или безличной мистики? Перед нами два противника: один из них, христианин, видит больше, а другой, буддист, видит меньше, так что спор в главном пункте сводится к тому, что первый принимает утверждение второго и лишь привносит к нему дополнение, между тем как второй отрицает это дополнение. В таком споре чаще всего заблуждение оказывается на стороне отрицающего: очень часто человек чего-нибудь не видит, гораздо реже он видит то, чего на самом деле нет. Рядом с основной неполнотой и вследствие нее в буддизме есть ряд других видов неполноты и, следовательно, отрицаний, которым христианство противополагает утверждение положительных начал, более легко усматриваемых, чем область Сверхмирового, так что сравнительно легко можно доказать ошибочность этих отрицаний. В самом деле, буддизм отрицает субстанциальную сверхвременность индивидуального я, не видит абсолютных положительных ценностей в мировом бытии, не видит высокого смысла мирового бытия, отрицает абсолютную ценность индивидуального, неповторимого и незаменимого своеобразия каждой личности, как момента, необходимого для гармонической полноты мирового бытия, отрицает свободу и потому не понимает значения греха, как источника производных от него несовершенств нашего эгоистического царства бытия, не усматривает того, что индивидуумы, поскольку они освобождаются от греха эгоизма, способны к свободному соборному творчеству, осуществляющему совершенное добро Царства Божия, красоту, истину, нравственное добро, любовь, полноту жизни. Громадное количество этих отрицаний и обеднений миропонимания и мирочувствия указывает на то, что буддизм стоит на ложном пути. Особенно убедительное косвенное доказательство ложности безличной мистики буддизма заключается в том, что она для объяснения происхождения мира принуждена прибегнуть к явно фантастической конструкции, ничего не объясняющей и только усугубляющей трудности; в самом деле, отвергнув идею Творца и твари и поняв мир, как только зло, только недолжное, философия буддизма вносит зло в само Абсолютное, в котором зарождается непонятная "суета", "волнение", порождающие ничтожный мир, заслуживающий лишь уничтожения. Придя на основании непосредственного свидетельства мистического опыта, а также на основании перечисленных трех групп косвенных доказательств к убеждению в ложности буддийской безличной мистики, мы ищем основную ошибку ее, приводящую ко всем дальнейшим заблуждениям, и находим ее в невидении греха нашей воли, как источника всех остальных видов зла; отсюда возникает невидение своего достоинства (возможность быть грешным есть показатель высокого достоинства человека, самостоятельной свободной воли его), невидение абсолютной ценности своего личного индивидуального бытия и, в связи с этим, невнимание к личному аспекту Сверхмирового начала, невидение Бога. В заключение я сообщу еще из современной литературы содержание статьи "The Gnosis of Buddahood" (в журнале "The Middle Way", октябрь - январь 1948-49) американской буддистки Ananda Jennings. Идеал буддизма, согласно ее статье, есть освобождение от временного процесса, от всего относительного, от всех противоположностей (opposites), от всякого дуализма, напр, познающего и познаваемого (стр. 58). Человеческую личность она понимает не как сверхвременное бессмертное "Я", а только как временный процесс ("I" process, стр. 59). Прекращение этого процесса, уничтожение всяких противоположностей и дуализмов, всякой множественности ведет к состоянию, в котором нет никаких "Я" (Egoless state, стр. 59) и никаких образов (Imagelessness, стр. 60). Это есть "Бессмертная реальная подлинная жизнь" (стр. 56). Как уже сказано было выше, христианская религия понимает Бога в "отрицательном богословии", как абсолютно совершенную сверхвременную жизнь, без всякой множественности; и даже в положительном богословии, говоря о трех Лицах Св. Троицы и о Их внутритроичной жизни, как идеале любви, эти понятия высказываются лишь по аналогии с нашей жизнью, т. е. указывая на то, что в Боге существует все ценное, имеющееся в единодушной любви нескольких личностей, однако в такой сверхмировой форме, которая не тождественна с нашими понятиями. Далее, в своем учении об отношении между Богом и миром христианин может утверждать в определенных и точных понятиях, что Бог творит мир из сверхвременных индивидуальных личностей, наделяя их свободной творческой волей, которая при правильном пользовании ею делает человека достойным стать членом Царства Божия по благодати и творить в блаженном единении с Богом полноту жизни, т. е. совершенную жизнь с бесконечно сложным содержанием. Чтобы понять христианский идеал полноты жизни, нужно различать два вида противоположностей, - одного из них нужно избегать, а другой, наоборот, необходим для богатства жизни. Нередко два элемента мира не только отличаются друг от друга, но и препятствуют бытию друг друга, взаимно уничтожаются. Таково, например, действие двух сил на один и тот же предмет в противоположных направлениях; такова вражда между двумя лицами и т. п. Такую противоположность можно назвать противоборствующей (conflicting). Наличность ее понижает число возможных комбинаций и проявлений жизни, обедняет жизнь. Существуют в мире другие противоположности, не противоборствующие друг другу. Возьмем, например, такие элементы мира, как желтизна, синева, аромат резеды, точка, справедливость и т. п. Каждый из этих элементов исключает весь остальной мир: желтизна есть не синева, не аромат, не точка и т. д. Но это взаимоисключение не есть уничтожение одного бытия другим, не есть сопротивление друг другу. Такие противоположности могут совмещаться в одном и том же пространстве, в одном времени, в одной вещи; одно и то же пространство может быть пропитано голубым светом и ароматом резеды; человеческая душа может быть охвачена одновременно чувством красоты и благоговением и т. п. Эти противоположности ведут к богатству, сложности и разнообразию мира. Их можно назвать дифференцирующими противоположностями. Лица, любящие, как заповедал Иисус Христос, Бога больше себя и ближнего, как себя, следовательно, вполне свободные от эгоизма, суть члены Царства Божия. Они не творят противоборствующих противоположностей; их деятельность посвящена творению дифференцирующих противоположностей, согласимых друг с другом. Любя Бога и друг друга, они единодушно творят гармоническое целое полноты жизни, т. е. жизни, заключающей в себе все согласимые друг с другом содержания бытия. Обладая не материальным, а преображенным телом, которое состоит не из актов отталкивания, а из прекрасного света, прекрасных звуков, ароматов и т. п., они творят только абсолютные ценности, - красоту, знание истины, нравственное добро. Время в Царстве Божием имеет иное строение, чем в нашем царстве несовершенного бытия. Все несовершенное не заслуживает сохранения и потому умирает, отпадает в область прошлого. В Царстве Божием все творимое членами его имеет вполне совершенную абсолютную ценность и потому не отпадает в прошлое, не забывается, постоянно соучаствует в полноте жизни. В нашем царстве бытия мы, эгоистичные существа, творим жизнь, полную недостатков. Однако даже и у нас в природе и в творениях искусства встречается высокая, хотя и не вполне совершенная красота, есть ценные, хотя только частные истины, есть нравственное добро. Поэтому даже и наше царство бытия должно задаваться целью не уничтожения жизни, а обогащения ее путем развития, ведущего посредством преодоления эгоизма к порогу Царства Божия. Лица, вполне освободившиеся от эгоизма, удостаиваются обожения по благодати и вступления в Царство Божие для блаженной вечной жизни в единении с Господом Богом. Буддийский идеал, требующий упражнений, подавляющих любовь ко всему, что есть в мире, кроме задачи уничтожения мира и своего "Я", есть нечто крайне неестественное. Широкое распространение буддизма среди народных масс, вероятно, сохраняется потому, что полное знание об этом идеале существует только среди ученых буддийских аскетов, а простые люди ведут нормальную жизнь, стараясь лишь как и добрые христиане, подавлять в себе дурные наклонности корыстолюбия, властолюбия, зависти и т. п. Надо думать, что буддисты, как и христиане, любят своих детей не только любовью сострадания, но и любовью, задающейся целью развивать содержательность их жизни, обогащать ее, а не вызывать в них отвращение к земному бытию. Всякое заблуждение возникает вследствие каких-либо односторонних интересов, страстей, вообще каких-либо недостатков субъекта. Открытие психологических основ заблуждения объясняет до конца возникновение его и упрочивает знание о том, в чем состоит истина. Психологическое объяснение недостатков буддизма было бы найдено, если бы удалось открыть, какие мотивы отвлекли внимание царевича Сиддхартхи от греха, как первичного зла, и чрезмерно приковали его только к следствию греха, к злу физических страданий. Была ли это изнеженность царевича, ведшего, согласно легенде, жизнь, полную чувственных наслаждений, или гордость, мешающая осознать свою греховность и связанную с нею естественность всевозможных страданий, ответа на этот вопрос нельзя получить вследствие недостатка данных. Почему учение Будды широко распространилось среди азиатских народов, этот вопрос еще более сложен; он требует специальных и притом весьма разнообразных исследований. Останавливаться на нем здесь невозможно, но следует отдать себе отчет о некоторых случаях увлечения буддизмом в современной Европе и Америке. У некоторых представителей европейской культуры мотивом увлечения буддизмом является гордыня. Самолюбивому и гордому человеку стыдно и почти невозможно сказать не только священнику на исповеди, но и самому себе: я завистлив, я честолюбив, или я труслив, неискренен, двоедушен. Гораздо легче вместо того, чтобы отвергнуть только эти стороны своего "Я", начать отвергать ценность всего мира и укорять себя за всякое проявление любви к жизни - за стремление к своему здоровью телесному и душевному, за любовь к семье, к науке, к родине и т. п. На этом пути вместо того, чтобы смиренно склониться перед идеальным ликом Христа и просить Его помощи, человек отказывается от всякого лика и направляется к безличной Нирване. Возможна еще другая форма сочувствия буддизму. Человек, движимый стихийными могучими страстями и нравственно осудивший их в себе, начинает энергично бороться с ними, но после многих лет упорного труда над исправлением своего характера замечает, что он не может преодолеть своих страстей. Тогда у него может явиться мысль, будто буддизм есть истинная религия, указывающая правильную цель - не исправление характера при сохранении любви к жизни и расцвету ее, а совершенное уничтожение личной жизни и всего мира. |
|
Христианство и Буддизм. Н.О. Лосский Религия есть высшая, наиболее ценная функция человеческого духа. Все ценное, подвергаясь искажению, может дать отрицательные явления. При этом искажение наивысших проявлений духа дает наиболее тяжелые формы зла: Corruptio optimi pessima. Этому закону подпадает также и религиозная жизнь человека. Поэтому, сталкиваясь с отрицательными явлениями религиозной жизни, многие люди бывают как бы ушиблены религией, в особенности христианством, и, не умея отличить идеальную, Божественную сторону религии от воплощения ее в земной жизни и от искажений ее людьми, начинают отвергать тот или иной вид религии или даже всякую религию и ненавидеть ее. В настоящее время появилось особенно много людей, возненавидевших христианство, борющихся с ним и в этой борьбе противопоставляющих христианству какую-либо другую религию или суррогат религий. Между прочим к числу таких восхваляемых за счет христианства религий принадлежит буддизм. “Предрасположение к буддизму на Западе”, говорит Кожевников, “создалось в значительной степени благодаря философскому учению Шопенгауера и Гартмана, учению, от которого, несомненно, веет холодом буддийского пессимизма. На этой почве, в сочетании с подлинной индусской метафизикой, стали за последнее время появляться опыты построения уже целой религиозно-нравственной системы, предназначаемой для замены собою христианства. Таковы, например, произведения Теодора Шульце “Веданта и Буддизм как ферменты для будущего возрождения религиозного сознания в пределах Европейской культуры” (Лейпциг) и “Религия будущего”, выдержавшая уже три издания. Исходя из положения, будто основы христианства отжили свой век, а христианские церкви держатся только помощью полицейского государства, сочувствием женщин, да силой Дарвинова закона наследственности, автор "озаботился заготовить новые обоснования для более полного и свободного религиозного сознания, приспособленного к потребностям высокой современной культуры". Такие основы, по его мнению, дает индусская философия в ее этической переработке буддизмом". Теософическое общество также не мало содействовало возрождению сочувствия к буддизму в Индии и успеху буддизма в Европе. Особенно потрудился на пользу буддизма полковник Олькотт, основавший вместе с Блаватской Теософическое Общество. В своем "Буддийском катехизисе" Олькотт следующим образом рекомендует проповедуемый им необуддизм: "Из всех религий он один учит наивысшему благу без Бога, продолжению бытия без души, блаженству без неба, святости без Спасителя, искуплению одними собственными силами, без обрядов, молитв и покаяния, без посредства святых и духовенства; он учит, наконец, совершенству, осуществимому уже в земной жизни" (1, 20). По примеру Олькотта ряд других лиц составляли "Буддийские катехизисы". В одном из них, написанном бикшу (монахом) Субгадрой, буддизм прославляется им, как "очищенное от суеверий и детских грез прошлого учение, свободное от догматов и формальностей, согласное с законами природы, с наукой вообще, с дарвиновской теорией развития в частности, одинаково удовлетворяющее запросам ума и влечениям сердца"[5]. Ученый японец Сузуки в своей книге "Очерки махаянского буддизма" говорит: "Если буддизм назовут религией без Бога и без души или просто атеизмом, последователи его не станут возражать против такого определения", так как "понятие о высшем существе, стоящем выше своих созданий и произвольно вмешивающемся в человеческие дела, представляется крайне оскорбительным для буддистов" Такие заявления найдут, конечно, отклики у тех горделивых философов, которые утверждают, что идея искупления противоречит требованиям нравственного сознания, и проповедуют самоискупление. Среди их читателей найдутся поклонники того ламы, который призывает "всех просвященных истинных учеников Будды привести на путь спасения христианских варваров в Европе, еще погруженных в глубину пропасти религиозного невежества". Имея в виду эти горделивые притязания, полезно отдать себе отчет в том, какова сущность буддийского благовестия и сравнить ее с идеалами христианства. Работу эту выполнил Кожевников в своем обширном труде, но при этом он имел в виду не необуддизм и не народную религию буддизма в ее разнообразных видоизменениях, а, насколько это возможно, первоначальное учение, которое можно с большим или меньшим вероятием приписать самому основателю буддизма (1, 38), получившему при рождении имя Сарвартха-сиддхи ("Исполнение желаемого" - в сокращенной форме Сиддхатхи). Сам он усвоил себе, когда стал аскетом, имя Готамо, но наиболее известен он под именем Будды ("пробужденный, осветленный, познающий"), которое означает всякое существо, достигшее высшей ступени духовного развития (1, 339). Время рождения Готамо-Будды точно неизвестно: между 624 и 459 г. до Р. X. Согласно учению некоторых буддистов, Готамо - двадцать восьмой Будда, явившийся на земле в последнем периоде ее развития (1, 235). Изложению книги Кожевникова я предпошлю краткую схему метафизики буддизма, пользуясь для этого трудом "Проблемы буддийской философии" О. О. Розенберга, талантливого русского ученого, погибшего в условиях гражданской войны во время большевистской революции. Розенберг дает "схему основных буддийских учений", более или менее общую "для буддистов всех направлений", пользуясь, кроме индусских, китайскими и японскими памятниками и источниками, которые в его время еще мало изучались европейскими учеными. Исходный пункт и основная задача буддийской метафизики есть анализ человека, именно анализ потока индивидуального сознания. Каждое конкретное переживание, например, радостное восприятие восхода солнца, можно разложить на ряд элементов: в нем есть 1. сознательное чувственное восприятие чего-то объективного - нечто светлое, круглое и т. п., 2. сознательные психические состояния - чувства радости, какие-либо воспоминания и т. п. Отделив путем абстракции чистое сознание, как форму, от содержания сознания, буддийские философы получают следующие три элемента: 1. сознание ("читта" или "виджяна"); 2. психические явления в абстракции от сознания ("чайтта"); 3. чувственное тоже в абстракции от сознания ("рупа"). "Эти элементы объединяются, вступают в связь друг с другом и сменяют друг друга; самый факт или процесс их сплетения, процесс смены и т. п. может быть рассмотрен как новый, четвертый элемент". Далее "кроме самих элементов и их взаимоотношений, т. е. самого факта их сплетенности, необходимо иметь в виду еще один элемент, обусловливающий способ их сплетения; от этого элемента зависит характер личности и характер переживаемого ею внешнего мира. Этот организующий элемент или формирующая сила буддизма называется "карма" (О. Розенберг. Указ, соч. С. 100). "Буддийская философия", говорит Розенберг далее, "не останавливается, однако, на простом разложении человека, видящего солнце, на такие элементы; каждый элемент, в свою очередь, рассматривается, как цепь моментов. Человек, допустим, смотрит на солнце в течение секунды; в секунду же входит большое количество моментов. Согласно трактату Абидармакоша момент равняется 1/75-й секунды, а по другим, например, по позднейшей бирманской традиции, момент-биллионная часть сверкания молнии. Видение солнца в течение секунды, есть поэтому цепь мгновенных действий сознания, световых явлений, явлений круглой формы и т. д." "Так называемая теория мгновенности основана на том, что сознательная жизнь действительно есть поток, беспрерывно меняющий свой состав, то более, то менее существенно, но смена происходит так быстро, что самый процесс смены остается незаметным: мы усматриваем только более длинные цепи моментов, а не единичный момент". "Человеческая личность с ее переживаниями, как предметов внешнего, так и явлений внутреннего мира, оказывается сведенной на поток ежемгновенно сменяющихся комбинаций мгновенных же элементов. Поэтому нет ни солнца, ни человеческого "я", нет ничего постоянного, кроме вихря элементов, слагающихся каким-то закономерным образом; в результате получается сложное явление "человек, видящий предметы и переживающий психическую жизнь", а не человек и предмет отдельно" (Розенберг. Указ. соч. С. 74). Что же такое каждый отдельный элемент, напр, мгновенный элемент радости или светлости или круглости? - Все эти элементы, мгновенно рождающиеся и исчезающие, суть "проявления", "функции" чего-то стоящего за ними, истинно реального, но трансцендентного сознанию и поэтому недоступного знанию (Розенберг. Указ. соч. С. 74). Трансцендентный (т. е. находящийся вне сознания) носитель мгновенного элемента называется в буддийской литературе словом "дарма" (дхарма от корня дхар - носить). Этот термин, к сожалению, имеет еще много других значений; напр., этим же словом "дарма" обозначается не только трансцендентный носитель, но и "несомое" им, данное в сознании мгновенное переживание (Розенберг. Указ соч. С. 90). Различия метафизических направлений в буддизме Розенберг сводит к различию учений о дармах, как трансцендентных носителях. "Школы спорят, - говорит Розенберг,- о том, какова природа той сущности, которая находится за вихрем моментов. Древнейшие (Сарвастивадины) отвечают, что каждый элемент, появляющийся на мгновение, есть функция или проявление субстанции, которая его носит, каждый элемент имеет своего носителя. Такой субстанциальный "носитель" обладает, однако, только одним специфическим признаком, так что не следует здесь думать о европейской субстанции, носящей качества во множественном числе. Таким образом, по терминологии древних школ, поток элементов, сформированный в личность с переживаемыми ею явлениями, есть результат проявления или функции бесчисленного количества непознаваемых субстанциальных носителей, или субстратов, "дарм". "Другие, тоже древние схоластические школы (Шунья-вадины) против этого возражают; если "носители" непознаваемы, то о них нельзя говорить, что они "есть" или "не есть", они лишь проявляются в моменте или перестают проявляться. То, что лежит в основании вихря элементов, - это нечто, безатрибутное, неподдающееся никакому описанию: "слова останавливаются". Это непознаваемое нечто - пусто, т. е. безатрибутно, ибо каждый атрибут, который мы ему приписываем, заимствован уже из бытия иллюзорного, а поэтому к абсолютному не применим. Абсолютное развернуто каким-то непонятным образом". "Третьи, наконец, позднейшие буддисты (Виджнянавадины) говорят опять другое: вихрь элементов, из которых слагается иллюзорная внешняя и внутренняя жизнь, не восходит в каждом элементе к субстанциальному носителю; таких носителей нет, все элементы вытекают из одной общей сущности, из одного вместилища, из "сознания - сокровищницы" (алая - виджняна)" (Розенберг. Указ. соч. С. 75). Каждая из этих трех школ отрицает существование души, отрицает субстанциальное индивидуальное я; живое существо ("сантана") для всех них есть только "цепь" (континуум) мгновенных сочетаний дарм. "Объединенность определенных дарм в одно целое объясняется действием объединяющей силы ("пранти") или сводится к процессу объединения (Розенберг. С. 213). "То, что в данный момент под влиянием "прапти" соединились именно такие дармы, и то, что они распределены именно так, в такую именно личность, с таким именно переживаемым, т. е. форма расположенности дарм - это сводится на новый фактор, на "карму" данного континуума". "Все неодушевленные предметы буддистами считаются за "асантана", за "неконтинуумы", в которых объединяющая и разъединяющая силы не действуют вовсе; предметы, следовательно, не могут считаться самостоятельными целыми. Гора, солнце или камень не имеют самостоятельного продолжающегося бытия, кроме их бытия частью потока сознательной жизни" (Розенберг. С. 214). Не следует, однако, думать, будто это учение есть психологистический идеализм, считащий предметы внешнего мира продуктами сознания. Это не возможно потому, что всякое длящееся бытие, также и бытие субъекта, есть, согласно буддизму, иллюзия. Сам поток индивидуального сознания есть не более, как коллекция мгновенных проявлений множества "дарм" (Розенберг. С. 104, 216). "Абстрактное сознание", говорит автор, "в смысле чистой формы сознания, или сознательности, как таковой, является известного рода центром в общем вихре дарм, и в таком смысле и буддисты допускают возможность назвать его термином "я". Но это "я" есть просто сознательная сторона переживаний, т.е. коррелят сознаваемой стороны, а отнюдь не самостоятельная душа в обыденном смысле этого слова. Сознание, в смысле центрального потока элементов сознавания, называется "читта" или "виджняна", причем оно является единичной дармой, т. е. в каждом моменте, наряду со всеми другими дармами, имеется только одно "читта", сменяющееся новым в следующий момент. "Виджняна" рождается беспрерывно, но не бывает того, чтобы в один момент было два "виджняна" (Розенберг. С. 182). Отсюда ясно, что первобытное учение о переселении душ, сохраняемое простонародной буддийской религией, невозможно в философии буддизма. "Следует иметь в виду", говорит Розенберг, "что не какая-либо "душа" переходит из одного тела в другое или из одного мира в другой, а что данный внеопытный комплекс дарм, проявляющийся в данное время, как одна личность - иллюзия, после определенного промежутка времени, проявляется в виде другой, третьей, четвертой и т. д. - до бесконечности. Следовательно, ничего собственно не перерождается, происходит не трансмиграция, а бесконечная трансформация комплекса дарм, совершается перегруппировка элементов - субстратов наподобие того, как в калейдоскопе те же частицы группируются в новые, более или менее похожие друг на друга фигуры, но все же индивидуально различные, никогда не повторяющиеся. Каждая отдельная фигура до известной степени обусловлена или связана с предыдущей, и в известном смысле влияет на последующую. Процесс такой перестановки происходит в силу безначальной инерции, и если не произойдет приостановки или пересечения движения, то колеса бытия автоматически должны продолжать свое вращение" (Розенберг. С. 229). Не следует при этом субстанциировать карму: "сила кармы, будучи тоже одной из дарм, столь же мгновенна, как и они; распределяются ею, следовательно, дармы одного момента. Образ расположения дарм в данный момент обусловлен, с одной стороны, тем расположением, которым обладал предыдущий момент; с другой стороны, он в свою очередь влияет на подбор дарм в последующий момент" (Розенберг. С. 219). Эту своеобразную теорию, превращающую весь мир, данный в опыте, в раздробленное множество событий, сочетаемых в комплексы неизвестной трансцендентной силой, я бы назвал агноститическим актуализмом. Пытаясь найти нечто, соответствующее ей, в европейской философии, я сравнил бы это учение с феноментализмом Джона Стюарта Милля, сделав одну оговорку, что буддизм не считает данные внешнего опыта психическими явлениями. Изложенные учения имеют значение для буддиста, как основа практической философии, указывающей человеку путь спасения от страданий, состоящий в освобождении от бытия. В самом деле, согласно буддизму, всякое событие, данное в опыте, есть результат "волнения", "суеты" или "помраченности" трансцендентного сознания Абсолютного начала. Это "волнение" есть нечто недолжное, оно неизбежно влечет за собой страдание. "Познавший истину, что бытия не должно быть, ибо оно противоречит сущности абсолютного начала, вступает на путь к успокоению, к Нирване, к окончательному покою. Путем подавления страстей и всего того, что его удерживает в вихре бытия, ему удается "срезывать", т. е. приостанавливать, проявление все большего и большего количества элементов, пока, наконец, не наступит полная тишина, не будет никакого иллюзорного бытия: останется только абсолютная сущность в состоянии полного спокойствия" (Розенберг. С. 77). Когда в потоке сознания живого существа появляется дарма чистой "мудрости", "прозрения" ("праджня"), именно постижение бессмысленности бытия, с этого момента спасение данного живого существа обеспечено: оно может, правда, еще пережить колебания и падения, оно должно пройти через длинный ряд ступеней сокращения проявляющихся в нем дарм, но рано или поздно оно наверное достигнет Нирваны (Розенберг. С. 235), т. е. сверхбытия, о котором нельзя сказать ни того, что оно есть, ни того, что оно не есть, так как оно выше всякого понимания и выразить его словами невозможно (Розенберг. С. 262). Достижение Нирваны не есть "возвращение к какому-то первоначальному состоянию невзволнованности. По учению буддизма, волнение безначально; оно, следовательно, не есть результат грехопадения, оно не грех, который нужно искупить, а первобытное страдание, которое должно быть приостановлено" (Розенберг. С. 257). "Понятие прекращения бытия - страдания существенно отличается от идеи спасения в других системах тем, что возможность его обеспечена именно его безначальностью. Только безначально волнующееся может достигнуть вечного покоя, ибо начавшееся волнение предполагало бы нарушенный покой. Если бы бытие имело начало, если бы оно было создано Творцом или Брахмой, оно, разумеется, тоже могло бы иметь конец, но оно могло бы тогда начаться вновь" (Розенберг, С. 260). Буддийская философия, таким образом, решительно борется против идеи Бога как Творца мира, и не признает учения о спасении мира Богом. В каждом живом существе, выходящем из круговорота бытия, достигает спасения само абсолютное трансцендентное начало. "Спасение существ, таким образом, есть самоспасение истинно-сущего. Будда, спасая существа, спасает себя; существа, спасая себя, спасают Будду; совершенство каждого есть совершенство всех, и спасение каждого есть частичное спасение истинно-сущего" (Розенберг. С. 261). В этом учении о спасении нужно различать древнейший буддизм, хинаяну, и более позднее учение, махаяну, возникшее около начала нашей эры (Розенберг. С. 37). Согласно учению хинаяны, каждое живое существо есть замкнутый вихрь дарм, не способный повлиять на другие существа; поэтому каждая личность может спасать только себя самое. Сторонники махаяны, наоборот, "утверждают связь между отдельными личностями, они внесли идею бодисатвы, т. е. такой личности, которая, дойдя до последнего момента, когда она могла бы погрузиться в вечный покой, отказывается от этого и, продолжая быть, помогает другим личностям достигнуть конечной цели" (Розенберг. С. 78). Подойдем теперь ближе к нашей основной цели - к рассмотрению буддизма для сравнения его с христианством, и вернемся к книге Кожевникова. Христианин утверждает, что мир сотворен Всемогущим и Всеблагим Богом, Который есть само Добро, сама Красота и Истина. Чертами добра, красоты и истины запечатлена также и первозданная сущность мира. Человеческая личность, индивидуальное "я" создано по образу Божию с задачей осуществить путем правильного поведения подобие Божие. Индивидальное "я", т. е. душа, есть существо сверхвременное: свои чувства, желания и поступки, т. е. свою жизнь всякое "я" творит во времени; они возникают и отпадают в прошлое, но само индивидуальное "я" стоит выше времени, оно есть существо, обладающее индивидуальным личным бессмертием. Сверхвременное существо, творящее свои проявления во времени, называется в философии субстанцией или, лучше, чтобы подчеркнуть его активность, можно назвать его словами "субстанциальный деятель". Итак, каждое индивидуальное "я" есть субстанциальный деятель. Согласно христианскому учению, каждая личность, исполняющая в совершенстве заповеди Христа: "люби Бога больше себя и ближнего, как себя", удостаивается обожения по благодати и вечной жизни в Царстве Божием с сохранением индивидуального своеобразия не только духовного, но и телесного. В Царстве Божием каждая личность достигает абсолютной полноты жизни и высших ступеней творчества, индивидуально своеобразного, но в то же время гармонически согласованного с творчеством всех других членов Царства Божия, откуда получается целое, обладающее совершенной красотой и совершенным добром во всех смыслах этого слова. Поэтому каждое индивидуальное "я" имеет абсолютную ценность. Согласно метафизике такого направления, которое можно назвать персонализмом, Бог сотворил мир так, что он состоит весь из личностей, действительных или, по крайней мере, потенциальных, т. е. способных развиться и стать действительными личностями. Бог есть абсолютно совершенное добро и, будучи Всеблагим, Он хочет, чтобы добро было как можно шире распространено. Он творит мир из личностей, потому что личность, правильно использующая свою свободную волю, способна творить жизнь, полную совершенного добра. Абсолютное неприятие мира, желание разрушить мир было бы хулою на Духа Святого и бунтом против Бога. Христианин отвергает в мире только зло, но он полагает, что зло не есть неизбежная принадлежность бытия: оно внесено в мир самой тварью, неправильно пользующейся свободой своей воли. Абсолютному осуждению подлежат только нравственное зло, эгоизм, а зло душевных и физических страданий есть следствие нравственного зла, имеющее глубокий и целительный смысл. Таким образом мир не только в его положительных, но и в его отрицательных чертах есть для христианина нечто проникнутое высоким смыслом. Буддизм, в противоположность христианству, проповедует абсолютное неприятие мира; его идеал - полное уничтожение мира и прежде всего уничтожение личного бытия, самоуничтожение. Мир для него есть результат бессмысленного "волнения", "суеты", поднимающейся непостижимым образом из глубин Абсолютного. Отрицая субстанциальное вечное бытие духа, буддизм видит во всяком существе только обреченность на неудовлетворение и отсутствие положительного содержания. Первоначальные основания этого пессимизма, согласно легенде, таковы. Царевич Сиддхархти (будущий Будда), окруженный восточной роскошью, изведавший всевозможные чувственные наслаждения, резко меняет свою жизнь под влиянием встреч, открывших ему глаза на тщету жизни и указавших путь к спасению: эта была встреча с дряхлым стариком, затем с больным проказой, вид мертвеца и, наконец, беседа с аскетом, который, "убоявшись рождения и смерти", поставил себе целью "избавиться от мира, подвластного разрушению" (Кожевников. С. 385-406). Замечательно то, что, согласно легенде, разочарование жизнью вызвано в душе Готамы зрелищем старости, болезни и смерти, т. е. физического зла, а не наблюдением нравственного зла - гордыни, высокомерия, честолюбия, властолюбия, лживости, предательства и т. п. Испугавшись телесной смерти, Готамо ищет спасения в смерти абсолютной, в совершенном уничтожении бытия. Не будем, однако, руководствоваться легендой. В философии буддизма дано гораздо более глубокое обоснование пессимизма, именно учение о временности, преходящем характере всякого бытия. Но и это обоснование не выдерживает критики. Временный аспект бытия возможен не иначе, как на основе более глубокой сверхвременной стороны того же самого бытия. Христианская религия, с ее возвышенной идеей Бога и высокими формами культа, воспитывает в человеческом чувстве, воле и разуме способность мистического приобщения к абсолютной ценности Божественного сверхвременного бытия " Царства Божия. Далее, обращаясь к нашему несовершенному земному бытию, христианская религия все силы и средства направляет на воспитание любви к Богу и всякой твари, на развитие видения всевозможных видов добра в природе и нашей жизни и отталкивание от зла. Сосредоточение внимания на добре выводит душу из суеты преходящего бытия, заслуживающего уничтожения, направляет ее на абсолютные идеальные ценности и воспитывает способность видения сверхвременной субстанциальности духа, а вместе с тем и возможности вечных благ. Старость, болезнь и смерть оказываются преходящими, сравнительно второстепенным злом: они устранимы при условии совершенного осуществления нравственного добра, и ужас их меркнет перед "красотой и блеском полноты бытия в Царстве Божием. Поэтому мотивы и цели поведения христианина не столько отрицательные - боязнь смерти, страданий и т. п., сколько положительные - любовь к Богу, любовь к тварям Божиим, любовь к добру, истине, красоте, свободе, любовь к творчеству, воплощающему эти абсолютные ценности, любовь к личному индивидуальному бытию как высшей абсолютной ценности, вмещающей в себя все остальные блага бытия. Наоборот, буддизм, отрицая субстанциальность и абсолютную ценность личности, выдвинул на первый план отрицательные цели - страшную цель уничтожения личного индивидуального бытия и мира вообще. В личном бытии буддист находит не источник любви к абсолютно ценному, не центр бескорыстного творчества, а только себялюбие. Достигая просветления, всякий Будда возглашает в "Гимне торжества": Я странствовал долго, я долго блуждал, Прикован к цепям бытия; Рожденье рожденьем я часто сменял, И тщетно разведывал я: Откуда в нас жизнь и сознанье? Откуда страданье? К чему это бремя повторных рождений Для новых смертей и для новых мучений? Но вскрылась мне тайна, в нее я проник: Сознание личного я И жажда его бытия - Вот жизни начало, вот смерти родник! Внемли ж Себялюбье, последнее слово: Ты впредь не создашь мне обители новой! Твоя уничтожена в корне основа; Померкли соблазны твоих обольщений; Достигнуты цели заветных стремлений: Из области смерти и новых рождений В иные мой дух устремляется страны, В края неизменной нирваны. Главным средством для достижения этой заветной цели служат знание и созерцание. "В море рождений и смерти", говорит Готамо, "знание - вот спасительная ладья! Знание- вот светильник, озаряющий мрачный, темный мир! Знание - вот благоприятное врачевание от всех недугов жизни! Знание - вот секира, способная снести прочь все непроницаемые заросли страдания! Знание - вот мост, перекинутый через стремительный поток неведения и похоти! А посему, во всех случаях, мыслью и надлежащим вниманием в слушании человек должен прилежно заставлять рождаться в себе знанию" (Кожевников. С. 150). На вопрос: "Кем правится мир, чьей власти подчинен он, с чьим бытием связан он?" Будда отвечал: "Сознанием правится мир; с сознанием связана судьба мира, могуществу сознания подчинен мир. Поэтому и "пять высших сил борьбы" (сека-балани), Буддой признаваемых, - это "всецело силы интеллектуальные: доверие (к учению, основанному на ясном сознании), энергия мышления, созерцательная сосредоточенность и прозорливость". "Отсутствие себялюбия есть путь добродетели; благожелательность - путь добродетели; правильное настроение (чувств) - путь добродетели; наконец, правильное углубление (понимания, знания) - благороднейший и старший из путей добродетели, древнейший, неразрушимый, непреходящий путь"; и хотя мудрость и правильность не обходит ни одного из этих четырех путей, однако по степени важности последнему отдано очевидное предпочтение". "Впереди, о монахи, шествует правильное познавание". "Освобождение совершается знанием, очищенным справедливостью и вдумчивостью и предшествуемым рассуждением об учении (о дхамме)". "Загрязнение сердца нечистыми шлаками происходит от насилия чувств над рассуждением; оттого и очищение сердца может быть достигнуто только сосредоточенностью мысли на рассуждении, свободном от участия чувств" (Кожевников. Т. 2. С. 228). "Ясно сознательно входит и уходит мудрец; ясно сознательно взирает и отворачивается он; ясно сознательно движется; ясно сознательно носит рясу и чашу; ясно сознательно ест и пьет, жует и смакует, ясно сознательно опорожняется; ясно сознательно ходит, стоит, сидит, спит и бодрствует, говорит и молчит он". Этим путем "очищаются шлаки духа, причиняющие хромоту ему" (С. 245). "Ясно сознательно достигает мудрец бесскорбного и безрадостного состояния, достигает постоянной в настроении, одинаково на все смотрящей, совершенной чистоты и освящения, даруемого созерцанием" (Т. 1. С. 153). "Ни любовь, ни вражда", говорит он, "мне неведомы; ни радость, ни горе не потревожат моего духа" (там же). Согласно учению Иисуса Христа, совершенство - в полноте любви, а согласно учению Будды - в полноте знания (Т. 1. С. 150). И не удивительно: цель буддиста состоит в том, чтобы усмотреть отчетливо, что нет ничего абсолютно ценного и достойного любви, убедиться в том, что всякое бытие не субстанциально, что оно существует только в связи с потоком сознания, и должно быть уничтожено радикально путем самоуничтожения личности (Т. 1. С. 606). Для достижения этой цели, по самому существу ее, высшее средство есть не любовь - любить в этом мире нечего, - а знание, именно постижение ничтожности всего сущего. Кто согласился с этим учением, тот не находит Существа, к которому можно обратиться с молитвой, не находит Существа, которое заслуживало бы такого культа, как богослужение. Однако религиозная потребность преклоняться пред высшим началом в человеке неистребима. Чтобы удовлетворить ее, Готамо предлагает суррогат, то что у буддистов называется "бхавана", именно благоговейное размышление и созерцание, медитация или контемпляция. "Самые разнородные действия", говорит исследователь буддизма Зейденштюккер, "входят в область этой тренировки, проникнутой чисто индусским духом: тут и размышление о конкретных и отвлеченных предметах, тут и упражнения внимания применением то механических, то психических средств; тут и постепенно возрастающие экстатические состояния ("углубления"), с которыми связаны процессы интенсивного созерцания; тут и устранение внутренних к тому препятствий, пробуждение духовных сил, способностей и познаний, да и еще многое другое". Эти упражнения "заменяют в не-теистическом буддизме молитву теистических религий". Первая ступень духовного роста, достигаемая этими упражнениями, есть нравственная дисциплина (адисила), далее - мыслительная, интеллектуальная дисциплина (ади-читта) и, наконец, высшая ступень - дисциплина "высшей мудрости" (адипанна) (Т. 2. С."227, 235-240). Нравственная тренировка есть первое условие духовного роста, но высшее значение принадлежит не ей в этой системе, ставящей целью уничтожение личности. Поэтому о значении и характере нравственной деятельности будет сказано позже, а теперь познакомимся с интеллектуальной тренировкой - адичитта и адипанна. "В основе той и другой лежат процессы интеллектуальные, частью рассудочно-мыслительные, частью - мистически-интуитивные". "Результатом адичитты, выправки высшего размышления, является самато, покой, т. е. временное успокоение духа посредством временного же устранения препятствий к нему. Плодом же адипанны является випасанна (интуиция), т. е. глубочайшее прозрение в основные истины (три существенных свойства бытия и, так называемые, четыре благородных истины), овладение ими и слияние с ними. Самато есть таким образом состояние, еще связанное с настоящим миром (локия), тогда как випассана в своем конечном пункте есть уже нечто трансцендентальное (локутарра)" (Т. 2. С. 237). Она открывает последний путь к нирване, использование которого возможно только для законченного праведника, арьи, архата" (Т. 2. С. 238). Для того, кто прошел нравственную дисциплину (адисила) и вступил в область дисциплины высшего мышления (адичитта) первой задачей было "усвоение способности и привычки к сосредоточению внимания на теме, избранной для обдумывания и созерцания". Для этой цели рекомендуется упражнение в так называемых "касинах". Сущность этих упражнений заключается в сосредоточении внимания на каком-либо предмете; например, в "цветочных касинах" зрение и внимание сосредоточивается на предмете до тех пор, пока у выполняющего упражнение не получится восприятие лунообразного рефлекса, видимого как при открытых, так и при закрытых глазах и не исчезающего даже при перемещении и удалении от объекта созерцания. Продолжая сосредоточение на этом, так называемом, "воспринятом рефлексе" (угга-нимитта), стараются добиться появления второго, "внутреннего" рефлекса (патибага-нимитта), подобного звезде или "луне, выходящей из облаков", но обесцвеченной и неопределенной в очертаниях. Этот второй рефлекс есть "более одухотворенное" отражение первого (Т. 2. С. 253). Производятся эти упражнения с целью создать своеобразное психическое состояние самади, которое можно определить, как "благоговейное настроение, отданное думам о важнейших, священных истинах, созерцанию их и мистическому слиянию с ними" (Т. 2. С. 239). Согласно выражению йога-Сутра (1, 41), это есть "сосредоточение и сосуществование (событие, консубстанциация) воспринимающего субъекта, воспринимаемого объекта и акта восприятия" (Т. 2. С. 238). При появлении этой способности исчезают "пять препятствий, окутывающих дух"; чувственная похоть, зложелание, лень, внутреннее беспокойство и неустойчивость убеждений и настроений (сомнение). Таким образом "достигается "пограничное" благоговейное сосредоточение и прозрение (упачара-самади), пограничное в смысле приближения к области уже непосредственного созерцания высшей истины мистическим, сверхрассудочным восприятием или, по терминологии христианской аскетики, "умным светом" (Т. 2. С. 254). В Висудди - Магги дано подробное описание процедуры одной из касин, "земляной", описание, наглядно изображающее своеобразные приемы "достижения святости", по выражению этого самого авторитетного текста. "Избирающий земляную касину может получить ментальный рефлекс через посредство земли, нарочито для того подготовленной или простой, но с определенными границами, не без них, с порубежными чертами, не без них, размером с небольшой винный бочонок или с блюдо. Этот ментальный рефлекс он должен прочно воспринять, тщательно обследовать и определить, и тогда он узрит благодеяния, которые могут быть извлечены из него и поймет, какая это ценная вещь; проникнувшись высшим почтением и усердно прилежа к ней, он закрепит свой дух прочно на этом объекте, помышляя: во истину этим процессом я буду освобожден от страстей и от смерти. И таким образом, обособивши себя от чувственных удовольствий и от недостойных устремлений, непрестанно упражняя рассуждение и рефлексию, он вступит в первый транс, производимый изоляцией и характеризуемый радостью и счастьем". Для успешности "земляной" касины необходимо соблюдение множества условий: нужно выбрать почву определенной окраски, заключить ее в раму, смочить землю водой, чтобы поверхность ее стала совершенно гладкой и т. п. Затем упражняющийся должен вымести место, выкупаться и усесться на прочно сделанное сиденье на определенном расстоянии от круга касины, так как эти условия обеспечивают правильное созерцание ее при минимально утомительной позе. Усевшись упражняющийся должен прежде всего думать о ничтожестве чувственных удовольствий, мысленно повторяя такие фразы, как: "чувственные наслаждения лишены вкуса" и т. д. Достигнувши таким образом желания стать к ним равнодушным, дабы этим путем избавиться от них и обрести средства перейти за пределы страдания, он должен затем возбуждать в себе радость размышления о Будде, о дхамме (об учении буддизма) и Санге (буддийской общине) и, исполнившись величайшим почтением к этому процессу, как методу, употреблявшемуся всеми буддами и благородными учениками их для овладения равнодушием к чувственным удовольствиям, он должен сделать над собой устойчивое усилие и молвить: "Воистину, этим способом я стану участником в сладостной благодати обособления (изоляции)". Действуя так, постарается он уловить и развить ментальный рефлекс при равномерно и лишь отчасти открытых глазах, ибо, если глаза будут слишком широко открыты, они будут болеть и круг будет виден слишком явственно, ментального рефлекса же не получится; а если глаза будут слишком мало открыты, круг будет слишком неясен и мысли станут вялы, дремотны, и опять не получится рефлекса. Наблюдающий же рефлекс не должен рассматривать света его, ни его особенностей; не различая его окраски от цвета подлинника, он должен закреплять свою мысль на одной преобладающей, характерной черте и ее одну внимательно созерцать. Он должен при этом многократно повторять какое-нибудь название или какой-либо эпитет земли, например, "широкая, объемистая, плодородная"; лучше всего, в виду общеизвестности термина, повторять слово "широкая, широкая, широкая", - созерцать круг должно то с открытыми, то с закрытыми глазами, сотни, тысячи раз и даже более, пока не обеспечится восприятие ментального рефлекса" (Т. 2. С. 256). Существенное значение имеют медитации, освобождающие человека от привязанности к телу. Вот один из образцов такого созерцания: "Тело, связанное костями, облеченное надкостницей и мясом и прикрытое кожей, с виду кажется не тем, что оно есть. Ввнутри него вмещаются кишки, желудок, печень, селезенка, вместе со слизью, слюной, потом, лимфой, кровью, подсуставной жидкостью, желчью и жиром. Девятью путями непрестанно вытекают нечистоты из тела: выделения глазные - из глаз, ушные - из уха, слизь - из носа, мокрота и желчь - изо рта, а пот и грязь- через все тело. .. И вот безумец, водимый невежеством, мнит, будто составленное из всего этого есть нечто прекрасное". "Когда же это тело лежит перед нами мертвое, вздутым и побледневшим, когда уносят его на кладбище, тогда даже ближние не дорожат им". Кроме презрения к телу, эти медитации имеют целью осознать несамостоятельность тела, выработать убеждение в том, что оно есть сочетание стихий, образующееся и вновь распадающееся. Для наглядного живого усвоения этой мысли мудрец "созерцает тело, стараясь представить его себе в том виде, какой оно имеет через день, два или три после смерти, вздутым с синеющими трупными пятнами, в процессе начавшегося разложения" и отсюда выводит заключение: "и мое тело так же организовано, и переходит к созерцанию тела, разодранного псами и шакалами, и повторяет "и мое тело такое же" и возбуждает далее в себе образ того же трупа в виде ободранного, окровавленного скелета... потом - уже распадающимся на отдельные кости, разбросанные там и сям; и опять повторяет: "и мое тело таково же; и я не исключение из общей участи". И настолько глубоко и прочно проникается он этим сознанием, что начинает уже жить без привязанности к своему телу и к чему бы то ни было в мире" (Т. 2. С. 280). "Некоторые до того приобрели навык в подобном превращении соблазнительного в претящее, что и в живом существе им постоянно чудился мертвец. Типичный ответ в этом смысле дал отшельник горы четийской Магатисса мужу одной красавицы - щеголихи на вопрос, не встречал ли он такой женщины на пути: "Мужчину, женщину - ль я встретил на пути, - не знаю; одно тебе могу сказать я: скелет здесь точно встретился со мной" (Т. 2. С. 517). Освобождение от тела и овладение им, пожалуй, еще в большей степени достигается путем контроля над вдыханием и выдыханием. Эти упражнения связаны с тренировкой праны (Т. 2. С. 258). По учению Будды, эта дисциплина есть надежное средство, во-первых, противодействия "непроизвольно возвращающимся дурным, недостойным помыслам и образам алчности, ненависти и ослепления", которые должно "подавлять, сгибать, принижать мучением духа" посредством тренировки дыхания "при сжатых зубах и приподнятом к небу языке". Во-вторых, это - средство подъема в области утонченного сознания. Для успешного упражнения в этой дисциплине Будда рекомендует удаляться в глубь леса или в пустую келью, усесться со скрещенными ногами, выпрямивши стан и предаться созерцанию". Сознательно надо вдыхать и выдыхать, проникаясь следующими мыслями: "вот я вздохну глубоко, а вот - коротко; вот стану вдыхать и выдыхать, с ощущением этого процесса всем телом; а вот стану делать это, ослабляя ощущение связи частей тела друг с другом". И таким образом погружается он в процесс дозора внутреннего тела над внешним; снаружи и изнутри бдит он над телом; наблюдает, как возникает и как проходит оно, и осознает факт: "вот что оно такое, это тело!" И это прозрение становится ему опорой (в дальнейшем духовном росте), ибо оно образумляет и научает жить независимо (от гнета всего материального) и не желать ничего в мире". А далее, - "ощущая блаженство, буду дышать я; ощущая связь мыслей, буду вдыхать и выдыхать я; воспринимая изменчивость и непривлекательность; воспринимая и осознавая устроение (соединение) и отчуждение (распадение), буду вдыхать и выдыхать я" (Т. 2. С. 259). Тренировка праны сопровождается, как видно уже из этих слов Будды, медитациями, имеющими целью внедрить в ум мудреца путем личного переживания убеждение в несубстанциальности и ничтожности всего сущего. Первая группа медитаций, подробно описанная выше, направлена на тело и задается целью развенчать его и воспитать презрение к нему; далее, медитации направляются с целью такого же развенчания на душевную жизнь человека - на чувства, затем на мысли и вообще сознание; наконец, четвертая группа медитаций посвящена развенчанию всех явлений вообще (Т. 2.С. 633-636). Здесь на личном опыте мудрец приходит к убеждению, что "все это мимолетно, эфемерно, несущественно"; "ничего субстанциального, самосущего, довлеющего, удовлетворяющего! Только одни мимо-бегущие тени!" (Т. 2. С. 281). Освободившись таким образом от влечения к бытию, мудрец вступает далее на "благородный восьмеричный путь" созерцаний, связанных с экстазом и переживанием блаженства. Радость, испытываемая в этих экстазах, не есть чувственное удовольствие; она "возникает из восприятия не ощущений, а идей; по восприятии же проникает собою весь организм, но в виде не чувственного, а духовного восторга, испытываемого, однако, и всей физической стороной организма" (Т. 2. С. 243). Сначала мудрец проходит четыре ступени погружения в область форм без влечения к ним, откуда возникает переживание блаженства; далее он вступает уже в область сверхрассудочного экстаза, именно осуществляет четыре погружения в мир бесформенности. В Ангуттараникая даны следующие пояснения смысла этих четырех высших ступеней экстаза: "вследствие полного самоподъема над (иллюзорными) восприятиями телесных форм; вследствие (должного) устроения реальных восприятий и в силу того, что созерцатель уже не имеет в себе в настоящей (окружающей его) действительности восприятий множественности вещей, он в процессе усвоения положения "простанство безгранично" достигает и сам безграничной области пространства. Возвысившись же и над этой областью, он в представлении "безгранично сознание" подъемлется в неограниченную область сознания; в силу же полного самоподъема над нею он, в итоге этого процесса (выражающегося положением "нет ничего"), вступает в область небытия; поднявшись же над нею, достигает области тождества восприятия (различения, определения) и невосприятия (неразличения) или же безразличия сущего и не-сущего (по отношению к находящемуся в данном состоянии), - что и составляет последнюю, восьмую джану, или наибольшее, "глубочайшее углубление" (Т. 2. С. 264). Здесь совершается вступление в область совпадения противоположностей. Освободившись от всех форм, субъект стоит на границе полного освобождения также и от своего личного индивидуального бытия. "Этот нигилистический итог", говорит Кожевников, "обозначается в системе медитаций термином заключительной, всеобъемлющей, девятой самапатти, нирода-самапатти, осуществленное прекращения, а по другой терминологии, прекращения как мысленного восприятия, так и ощущения". Эта девятая степень экстаза, наблюдаемая со стороны, "представляется в виде каталептического, бессознательного состояния, подобного глубокому сну, длившемуся иногда до семи дней, с прекращением, как полагали, всех телесных и духовных отправлений и с приближением к смерти, от которой это состояние отличается сохранением некоторой внутренней теплоты и возможностью возврата к обычному функционированию организма" (Т. 2. С. 266). "Святые", говорится в Виссудди-Магга, искони ценили этот транс прекращения (транс остановки всех духовных) процессов, "всегда почитали его как бы за нирвану, испытываемую уже в настоящей жизни, и потому способность достигать этого состояния, даруемая в награду за мудрость, обретаемую на путях праведности, именуется благословением, стяжаемым на оных путях" (Т. 2. С. 270). Итак, говорит Кожевников, усилия буддийского мудреца "все время направлены не к обнаружению положительной основы фактов и явлений жизненного процесса, не к выяснению того, что есть "вещей истина, а к разоблачению их отрицательных качеств, к выяснению призрачности и обманчивости вещей, действий и явлений, составляющих содержание жизни. Всюду в этой сложной, полуфилософской, полумистической работе пробивается непрерывное стремление не к величайшей реальности, не к абсолютному бытию, к Богу, а к уменьшению интенсивности бытия, к слиянию саморазлагающегося и искусственно разлагаемого живущего существа с абсолютным небытием, с нирваной. Это не рост духа, составляющий цель христианской аскетики и мистики: это, выражаясь подлинными словами буддизма, "прекращение духа". "Достижение" полагается здесь не в умножении данного уже жизнью, а в утрате его; задача, - опять в полную противоположность христианству, - здесь не в очищении и обожении чувств, желаний и мыслей, а в полном "угашении" их. Аффекты мирские не сменяются жаждой небесного, вечного, божественного; любовь земная не перерождается в любовь божественную, и личность, подвизающаяся по стези мудрости и праведности, в конце концов сливается не с Богом, "наполняющим всяческое во всем", а со всепоглощающим Ничто". "Сообразно с этой основной тенденцией буддийского экстаза, от него веет леденящим холодом, настоящим дыханием смерти. Здесь нет пылкости мистики католической, столь склонной к сентиментальному млению, и граничащей нередко с чувственностью. Нет здесь и здоровой теплоты того "умного света", что озаряет горние выси аскетики восточно-православной. Это не парение духа, окрыляемого любовью; это хладнокровный самоанализ духа, безжалостная вивисекция его, напряженная работа "ясного сознания" вплоть до самоумерщвления даже и сознания. И во всех этих рассуждениях, выдумываниях, "углублениях" и "достижениях" - ни разу ни единого воспоминания, ни единого слова о любви. Но зато, сколько забот, дум, грез об "угашении", о "прекращении". Одолеть роковую карму единственным возможным путем - уходом из-под мертвой петли причиняемых ею перевоплощений - вот конечная цель системы экстатических переживаний" (Т. 2. С. 267-270). Мудрец, овладевший с помощью описанных упражнений всеми функциями своего тела и духа, приобретает магические, оккультные способности. "Оставаясь целостной (единой) личностью, он может становиться множественным (т. е. становиться несколькими личностями единовременно) или же, ставши множественным, снова становиться единоличным; он может быть видимым и невидимым; не чувствуя препятствий, он, как бы по воздуху, переходит по другую сторону стены или холма (перемещаясь сквозь них), он проникает сверху вниз через твердую почву, словно как через воду; ходит по водам, как по суху, перемещается со скрещенными ногами по небу, как птицы; даже луну и солнце, столь мощные, он осязает руками; не расставаясь с телом, он подъемлется даже до неба Брамы. Явственным, небесным ухом, превосходящим человеческий слух, он слышит людские звуки, близкие и дальние... Проницая своим сердцем сердца других существ, других людей, он знает их, он различает их и их свойства. Он восстанавливает в памяти свои прежние временные состояния дней минувших хотя бы до ста тысяч прежних рождений, за многие зоны диссолюции и эволюции... во всех видах (бытия своего) и во всех подробностях... Чистым небесным оком видит он падение и восстание существ, видит, как они переходят из одной формы бытия в другую и воплощаются в другой" (Т. 2. С. 288). Однако надо заметить, что "Будда, веря в возможность и действительность магических сил, ценил их не очень высоко и не поощрял необдуманного и безтактного применения их" (Т. 2. С. 288). Единственная и последняя цель, к которой он стремился, - уничтожение мира и личного бытия: "иссякла, побеждена жизнь, закончена святость, совершен подвиг: мир этот более не существует!" Такова, восклицает Готамо в одной из главных своих речей, очевидная награда подвижничества! Иной высшей и желательной награды нет! (Т. 1. 154). Предвкушение вечной смерти наполняет душу буддийских аскетов непонятным нам восторгом: Сгорела я; истлела я; Угасла я; остыла я, И навсегда, и навсегда. И не воскресну никогда! Мир вечных смен, - разрушен он, И к бытию нет возвращенья. Все бытие истреблено И вытравлено все оно. Жизнь выжжена вплоть до корней И не вернуться снова к ней. Учение о перевоплощении, казалось бы, требует признания субстанциальности я. Мы видели, однако, выше, что буддизм признает не переселение душ или перевоплощение субстанциальной души, а перегруппировку элементов (дарм) в новое живое существо под влиянием кармы, которая связывает предыдущий индивидуальный поток сознания с последующим, причем и сама эта карма есть безличное начало. Современный ученый-буддист японец Сузуки выражает сущность мира в следующих четырех положениях: "1. Все временно, преходяще; 2. Все пусто (бессодержательно); 3. Все лишено личной основы (самоосновы); 4. Все - таково, каково оно есть (каковым оно может быть)" (Т. 1. С. 38). В таком мире человек, ищущий спасения от зла, не может найти благодатной помощи свыше; в борьбе за добро он предоставлен одним своим собственным силам и прежде всего своей способности постигнуть истину ничтожности бытия. "Никто, братия", говорит Готамо, "не поведал мне благородной истины о скорбях, но сам я постиг ее", и ученикам своим он советует "не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе; сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя..., не прибегая ни к какому внешнему убежищу... достигайте высочайшей вершины" (Т. 1. С. 175). Слова Апостола Павла "знание надмевает, а любовь назидает" (1 Кор., 8:1) прекрасно характеризуют противоположность между христианским и буддийским учением. Будда хвалится своим разрывом с прошлым: "мною самим познана истина; мною самим достигнуто освобождение; мною самим все сделано; мною самим все закончено" (Т. 2. С. 21). Наоборот, Христос, говорит Кожевников, "не выдает возвещаемого Им учения за исключительно Свое и всецело новое. Это - учение Отца Его, это - истина вечная, только полнее в новом свете Им вскрываемая. Он пришел не разрушить, а исполнить Закон, углубивши, расширивши, восполнивши его. Он не разрывает связи с прошлым, ссылается на Своих провозвестников, на "уготовлявших путь Его" (Т. 2. С. 211). В христианском сознании все ищущие совершенства Отца своего Небесного мыслятся, как единое целое, как органы единого тела Церкви, как ветви на лозе: "Я - лоза, вы - ветви. Пребывающий во Мне -и Я в нем, - тот приносит много плода", говорит Христос. (Ин. 15:5). В учении Будды, наоборот, все живые существа мыслятся обособленными и предоставленными самим себе. Не только здесь нет учения о мистическом единстве Церкви, но и учение о единении с Богом решительно отвергается. "Верить в общение и единение с Верховным Брахманом, незримым и непостижимым, о котором неизвестно, где он, откуда взялся он и куда девается, значит верить в возможность для низших существ познавать несуществующее в действительности". Не ясно ли, семь раз подряд повторяет Готамо, что "самые речи о ложном и правильном, спасительном пути к Божеству и о состоянии единения с Брамою, которого никто никогда лицом к лицу не видел, суть речи глупые, дурацкие речи!". "Сравнивая эти шутки", говорит Кожевников, "с величавыми выражениями в Упанишадах стремлений древне-индусской мысли к неведомому и неопределимому Божеству, нельзя не удивляться духовной неспособности творца буддизма к мистическому восприятию религиозного начала" (Т. 2. С. 199). "Не удивительно, продолжает Кожевников, что такое настроение у большинства не могло продержаться долго; с ранних пор среди учеников того, "кто совершенно освободился от стремления к миру Богов", пробудилась реакция в эту отвергнутую им сторону и стал тотчас же зарождаться культ нового Божественного существа, самого Будды. Воспоминания о нем, почтительное отношение к его речам и деяниям, к местам, связанным с важными событиями его жизни, к мощам его и изображениям, а затем молитвенные обращения к нему, хвалебного, благодарственного и просительного свойства, и, наконец, принесение ему "невинных" жертв, цветов, плодов, риса, благовоний, - все вместе взятое постепенно сформировалось в настоящий культ Будды и умножило обряды, празднества и торжества в духовном быту его последователей". "Области, примкнувшие к системе Махаяны, были затронуты склонностью к ритуальному значительно сильнее, чем страны южные, оставшиеся более верными первоначальной простоте обряда" (Т. 2. С. 219). Но именно потому, что южный буддизм принципиально не отозвался на потребность религионизировать учение Будды, он после временного расцвета не смог выдержать борьбы с браманизмом, джайнизмом и исламом и вымер в Индии (кроме Цейлона, Сиама и Бирмы). Зато буддизм северный, по выражению Рис-Девидса, отдался неудержимой и "ненасытной жажде сердец создавать богов, чтобы заселять ими области опустевшего индусского пантеона" (Т. 2. С. 44). "Учение, призывающее к спасению всех, но без веры в Бога, а силою одного человеческого рассуждения и одной человеческой воли, не только не может быть принято всеми, но, именно по своей иррелигиозности, отвергается в своем подлинном виде большинством и замещается, за отсутствием веры в единого Бога, суевериями грубого язычества. Не будет парадоксом сказать, что буддизм оказался популярным и живучим лишь благодаря искажениям своего подлинного учения, лишь вследствие сознательной или несознательной измены своему идеалу и замены его иным" (Т. 2. С. 744). Вернемся опять к учению первоначального буддизма и познакомимся с нравственной стороной его. Буддийская литература богата высокими учениями и трогательными поэтическими повестями о любви, самопожертвовании, жалости ко всему живому, непротивлении злу злом. "Любовь к злому, даже к порочному превращает несчастье в счастье: вот что разрывает цепи зла", читаем мы в одной из повестей о прежних воплощениях Будды (джатака). В повести "О выборе наилучшего" рассказана история бодисатвы, царя бепаресского, который, подвергнувшись нападению бунтовщика - министра, соединившегося с шайкой разбойников, приказывает открыть перед своим врагом ворота столицы и не сопротивляться ему. Ввергнутый своим врагом в тюрьму, он вызвал "в сердце своем новые чувства любви к злодею и достиг экстаза любви". И чистый пламень этот объял, наконец, закостенелую душу: полный раскаяния преступник спешит к миролюбцу, молит о прощении: "бери назад свое царство; твои враги отныне - мои враги". Бесчисленны в буддийской литературе рассказы о жалости людей к животным и даже животных друг к другу. Бодисатва - отшельник отдает себя на съедение голодной тигрице, собиравшейся растерзать своих новорожденных детенышей. Царь Шивп отдает сосать свою кровь болотной мошке. "Мудрый заяц Шаша", встретив голодного брамина (бога Сакка в виде брамина) и, не имея, чем угостить его, "решает накормить гостя своим мясом; но зная, что брамин не отважится сам убить его, он просит развести костер и, предварительно отряхнувшись, "чтобы, - не ровен час, - не погубить мелкую тварь в шерсти своей, прыгает в огонь, приглашая гостя изжарить его и съесть". Вспомним, однако, что, согласно буддизму, никакое бытие не имеет цены, и конечная цель есть уничтожение личности; отсюда следует, что добродетель не есть абсолютная ценность; она только средство для достижения конечной цели - освобождения от жизни. "Храните добродетель, монахи!" - говорит Будда, "храните чистоту в делах и поведении, и от заботы о малейшем проступке шествуйте дальше, шаг за шагом: от выполнения совершенной добродетели переходите к борьбе за обладание внутренним покоем духа, к созерцанию, к всепроникающему прозрению, к уединению в пустых кельях, к переживанию святых освобождений, к возвышению над миром форм, к достижению магических сил идди, и, наконец, к полному освобождению". "Не возможно переплыть реку (избавления) при поведении нечестивом; но и чистого поведения недостаточно для этого. Конечная цель достигается только чистым знанием" (Т. 2. С. 302). Поэтому, хотя "безнравственность позорна и является пятном и в этом мире, и в ином", тем не менее "есть пятно еще худшее из всех - неведение; вот тягчайшее из пятен" (Т. 2. С. 296). Когда Готамо возвестил ученикам близость своей кончины, один из них, Ананда, умоляя его воспользоваться способностью всякого будды продлить свою жизнь "ради блага и счастья великого множества людей, из жалости к миру, на благо, пользу и благополучие людей и богов", - Готамо наотрез отверг такую просьбу, указавши, что он уже "развил, выполнил и перевыполнил до крайних высот четыре пути святости" и вменил ученику, знавшему это, в вину просьбу продолжать вращаться в области доброделания и благодеяний; такой призыв вернуться к "делам" он обозвал, "если не прямо неверием, то все же маловерием" (Т. 2. С. 306). "Рожденье, скорбь и старость превозмог я", говорит мудрец, достигший высших ступеней, "к чему теперь мне добрых дел свершенье? Возвышенный! Отныне возвещай мне только знанье" (Т. 2. С. 212). И в самом деле, если конечная цель есть избавление от перевоплощений и совершенное уничтожение личного бытия, то добродетель низводится до степени лишь подготовительного средства, которое на известной ступени совершенства грозит стать помехой на пути к цели. Действительно, дела, совершенные в настоящей жизни, необходимо приводят к новому перевоплощению. Дурные дела невыгодны: они приведут к новому воплощению с увеличенными страданиями. Но и добрые дела приводят к новому воплощению; правда, они обеспечивают "небесные радости", но Готамо назвал эти радости "презренными", потому что они не вечны и не избавляют от возрождений. Беседуя с купцом Судантой, прозванным за дела милосердия "опорой сирот и нищих", Будда хвалит его за добрые дела, говорит, что они "способны возвести на небо и дать участие во всех его блаженствах". "Но все же", продолжает он, "стремиться к этому блаженству есть великое зло, ибо всякое пожелание, возрастая, приносит скорбь. Итак, упражняйся в искусстве отречения от поисков чего бы то ни было, ибо отречение от всякого желания и есть счастье полного покоя. Не желай же ничего: ни жизни, ни ее противоположности... Мы должны достигнуть пассивного состояния, немышления, конечной пристани, нирваны, покоя. Ибо все пусто. "Нет ни личного "Я" (души), ни места для него. Весь мир подобен грезе". "Деятельное человеколюбие принесено в буддизме в жертву личному освобождению от ига бытия" (Т. 2. С. 25). "Как бы велики ни были нужды и потребности других, никто не должен ради них жертвовать своим собственным спасением"], находим мы в Дхаммападе, в своде буддийской морали. "Нет ничего дороже самого себя", и только потому, что "свое "Я" одинаково дорого каждому, из любви к своему собственному дорогому "Я", не обижайте никого". В противоположность Христу, сводящему весь нравственный закон к любви, вопреки Апостолу, возвещающему, что "любовь не знает страха", Дхаммапада внушает: "От любви родится печаль, от любви родится страх; для того, кто вполне освободился от любви, не существует печали, ни тем более страха... Не любите же ничего!" В это "ничего" по смыслу учения и по его подлинным выражениям, как сейчас увидим, включено и "никого". "Только не имеющий более связей с людьми стряхнул с себя и те связи, которые мог бы иметь с богами; только тот, кто вполне и ото всего отрешился, - вот кто мудрец, законченный человек". "Мудрец не зависит от добродетели и от святых дел; он не руководствуется ими"; "чистота основана не на добродетели и не на святых делах..., отложивши их в сторону и не обращаясь ни к чему другому, надо пребыть спокойным и независимым, не желая вообще какого бы то ни было существования". "Снова и снова", говорит исследователь индусской культуры Л. фон Шредер, "со стороны буддизма - отрицание; со стороны христианства - утверждение. Любить, страдать и, наконец, жить - вот обязанность, вот желание истинного христианина! Не любить, не страдать, не жить - вот идеал буддиста. Здесь во истину выясняется глубокая и широкая, не переходимая пропасть, разъединяющая буддизм с христианством". Отрицательный характер буддийского идеала, именно отрицание ценности всякого бытия и проповедь уничтожения личности, понижает ценность также и всех нравственных понятий, вырабатываемых буддизмом. Симпатия ко всему живому приобретает характер не положительной любви к положительному, ценному содержанию живого существа, а только жалости к чужому страданию и стремления избавить все живое от страданий. Поэтому прав Бартелеми Сент-Илер, утверждающий, что "буддизм есть милосердие без любви". Отсутствие положительной цели придает нередко самим актам самопожертвования уродливый характер непропорционального соотношения ценностей. "Жалостливый царь уступает простому поденщику полцарства, чтобы избавить его только от труда в знойный полдень". Царевич Виш-вантара уступает демону двух сыновей и "радостно смотрит, как тот пожирает их, точно пучок овощей". Для буддизма характерно, говорит Кожевников, "настойчивое внушение жалости к животным, доходившее иногда в буквальном смысле слова до оцеживания комара (напомним джатаку о попавшем на кол за насаживание комара на иголку), и в то же время непозволительное равнодушие к страданиям людей, выразившееся если не в полном отсутствии помощи, то во всяком случае в очень малых и редких проявлениях этой помощи". Отрицательным характером идеала объясняется также отсутствие связи с умершими и проповедь какого-то нечеловечески бесчувственного отношения к ним, а иногда и отвратительные приемы "отучения от скорби" по ним. Так, например, бодисатва отрезвляет царя Ашоку, неутешного в потере красавицы жены тем, что "показывает" ему, как его бывшая подруга, перевоплотившись в червя, предпочитает ему нового друга, товарища по навозной куче, прежнему, самому Ашоке, славному повелителю мира". Женщина, носительница новой жизни, ненавистна буддизму, стремящемуся уничтожить жизнь. "Ни одна религия", говорит Кожевников, "не отнеслась к ней столь враждебно и отрицательно, как буддизм. Для него женщина не только не равноправна с мужчиной в мире духовном, как в христианстве; она даже не низшее существо сравнительно с мужским, как в магометанстве; она, независимо от сравнения с мужчиной, по самой природе своей, с буддийской точки зрения - существо низкое, умственно и нравственно глубоко несовершенное и, что хуже всего, неисправимое, безнадежное для достижения законченной мудрости и полной святости, а следовательно, неспособное к спасению до тех пор, пока сохраняет свою отличительную черту, женственность", т. е. пока не перевоплотится в мужчину. "Во многих религиях и во всякой аскетике женщина считалась источником соблазна, но в других религиях, христианской в особенности, она не обречена неизбежно и навсегда оставаться таковою; из соблазнительницы она может стать подвижницею и даже помощницею и руководительницею спасения других. Буддизм же отрицает за нею все это: женщина, как женщина, поскольку она женщина, стоит вне области спасений, она не сотрудник и не соучастник его, а враг, естественный, могущественный и неисправимый. Отсюда и отношение буддизма к женщине не просто равнодушное или безучастное, не только пренебрежительное, а действительно враждебное" (Т. 2. С. 501). Вот священные тексты: "Женщина - очаг страстей, претящий и презренный", "самое нечистое, самое чудовищное из существ", "подлинный ад для живых существ". "Ненасытна в половом акте и в рождении; до самой смерти не чувствует она отвращения к ним и пресыщения ими". Этот приговор, приписываемый самому "Всеведущему", "буддийская словесность не устает повторять, разрабатывая мотивы ее во множестве повестей, изображающих гнусность женщины". Красота в положительном смысле не существует для Будды: он не видит в ней отражения божественного совершенства, не понимает ее художественной ценности и еще менее ее гармонию с нравственной чистотой и со здоровым духом. Она для него всецело заманчивое марево чувственности, влекущее не в бездну греха, к чему довольно равнодушен Будда, а в омут привязанности к жизни. Вот почему взывает он: "Отбросьте объекты пяти чувств; отбросьте прекрасное чарующее; избегайте образов, кажущихся прекрасными, ибо их сопровождает страсть". Не только губительна красота, но и лжива, потому что призрачна: под прекрасным таится безобразное, претящее. "Одни безумцы обманываются видом красоты; мудрец же прозревает тщету всех этих воображаемых прелестей, взирает на них, как на сон, как на марево, как на грезу фантазии". Отрицательный идеал буддизма, уничтожение мира, естественно связан с пренебрежительным отношением к жизненному труду, тогда как христианство, наоборот, высоко ценит труд, начиная с его простейших физических форм. Особенно отрицательно относится буддизм к земледелию: "ничто так не гибельно для насекомых, как земледелие"; поэтому "Великий Мудрец воспретил монахам заниматься земледелием"; но "монахи дозволяют другим беспрепятственно обрабатывать свои обложенные податями (монастырские) земли и получают лишь некоторую часть продуктов с них. Таким образом, они ведут образ жизни праведный, избегая мирских дел и оставаясь чистыми от вины уничтожения живых существ пахотой и орошением полей". "Как в вопросе о труде, так и в отношении ко всем другим задачам социального строительства и усовершенствования социальных отношений, буддизм оказывается или безразличным или даже вредным, воспитывая в своих последователях безучастность к историческому процессу. Американский философ Пратт в статье "Единство буддизма" восхваляет пластичность буддизма и способность его к развитию. Как и все великие духовные течения, буддизм действительно обладает чрезвычайной приспособляемостью. Однако стать подлинным светочем жизни он не может до тех пор, пока идеалом его остается уничтожение мира и индивидуального личного бытия. Современный ученый Taiye Kaneko утверждает, что в составе буддизма есть идея "замещающего страдания", она связана с учением о бодисатве. Такое частичное приближение буддизма к христианству существует, и все же указание основного недостатка буддизма остается в силе: отрицая ценность личного бытия, буддизм Махаяны, как и Хинаяны, имеет конечной целью не преображение жизни, а только уничтожение ее и потому не обладает положительной мерой для правильного учения о степенях достоинства положительных ценностей. Сопоставляя буддизм с христианством, поставим его в наиболее благоприятное положение. Поймем Нирвану не как Абсолютное Ничто, т. е. совершенную пустоту, а как Сверхчто, т.е. как начало, обозначаемое термином Ничто лишь в виду несоизмеримости его со всяким мировым бытием, со всяким мировым "что". Иными словами, поймем Нирвану так, как понимают многие христианские богословы и философы, даже Отцы Церкви, Бога - в Его глубочайшей основе, развивая "отрицательное богословие". И при этом условии останется, однако, непроходимая пропасть между христианством и буддизмом и сохранятся отрицательные черты буддизма или обнаружатся новые недостатки его. Христианство есть теизм: оно утверждает, что Бог есть Творец, а мировое индивидуальное личное бытие есть тварь; первозданное тварное бытие абсолютно ценно и не подлежит уничтожению; даже и приобщаясь к Божественному бытию в Царстве Божием, человеческое "Я" остается индивидуальным "Я". Наоборот, буддизм, если понять Нирвану, как Сверхчто в духе христианского "отрицательного богословия", можно назвать пантеизмом (термин этот неудачен этимологически, потому что Нирвану буддисты не называют словом Бог). Проповедуя уничтожение личности и мирового бытия, буддизм остается, с точки зрения личности и мирового бытия, чисто отрицательным учением: погашенная личность становится чистым ничто и, следовательно, не участвует в положительном Сверхчто Нирваны. Можно однако попытаться утверждать, что уничтожение личной жизни есть положительное приобщение личности к Нирване. Когда один из учеников Будды, Малункяпутта, добивался у него разрешения недоумения: "существует ли Совершенный после смерти или нет?", Готамо ответил: "Нельзя сказать, что он существует, но нельзя сказать, что он и не существует; нельзя, наконец, сказать что он и существует и не существует после смерти". Здесь, очевидно, мы попадаем в область, стоящую выше закона противоречия и исключенного третьего, в область металогического. Но в таком случае совершенствующаяся личность есть в каком-то смысле само Абсолютное, и уничтожение личной формы бытия есть какое-то самоосвобождение Абсолютного, выражающееся в горделивых заявлениях Будды о самоспасении. Здесь перед нами вскрываются кощунственные с религиозной точки зрения и философски непоследовательные учения пантеизма, - чрезмерное сближение мирового бытия с Абсолютным, и внесение недостатков ("суеты", "волнения") в само Абсолютное. Нам остается в заключение познакомиться с сопоставлением буддизма и христианства, завершающим ценный труд Кожевникова. "Ни до буддизма", говорит Кожевников, "ни после него никто не отваживался на столь решительный шаг в сторону полной безнадежности; один буддизм осмелился совершить этот шаг, и в этом - трагическое величие и воспитательная ценность его подвига, не превзойденного в своем роде в истории. Не в этом ли, гадаем мы, и его провиденциальная миссия в ходе развития религиозного опыта человечества. Так и кажется, что в сложном и таинственном плане Господнего мироводительства, рядом со столькими поисками Бога, Истины, Правды, Красоты и Блаженства, и со столькими упованиями, окрылявшими дух человеческий в трудных путях этих поисков, необходимо было явить во всей безотрадной силе еще одно течение: отказ от самых поисков всего этого, вследствие полного отсутствия упования в торжество чего-либо положительного. К устам человечества, жаждавшего спасения жизни, но столь часто напоявшегося хмельною чашей чувственных вожделений и призрачных упований, прежде чем принять Чашу Спасения с призыванием в помощь Имени Бога Спасающего, надо было, ради научения противоположностью, приблизить чашу отчаяния, почерпнутую из мертвящих струй нирваны, дабы тем осязательнее и убежденнее понять и принять истину речения Спасителя: "без Меня не можете творить ничего" (Ин. 15:5). "Глубже и живее кого-либо буддизм познал правдивость трагического вопля страждующего человека: "Немощен есмь" и в этом - всемирно-историческая заслуга буддизма, в воспитательном, показательном смысле не изжитая еще и поныне. Но буддизм совершенно не познал второй истины, немедлено следующей за первой; он не расслышал или не захотел услышать второго клича души человеческой, клича верующего во спасение благодатию Божией: "Помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание" (3-я молитва пред святым причащением, Симеона Метафраста). В лице буддизма тварь забыла и отринула своего Творца и Промыслителя, поставивши на Его место роковой, бессмысленный круговорот будто бы безначальных, слепых космических сил. Отсюда неутешная, неисцелимая скорбь буддийского пессимизма, этого законченного воплощения "души, не имеющей упования". Утративши веру в Творца, она потеряла ее и в себя, а неверие и гордость помешали ей примкнуть и к третьему кличу "души болезнующей, помощи и спасения требующей": "Творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения" (2-я молитва пред святым причащением, Василия Великого). "Твой я, спаси меня" (Псал. 118:94)". "Ясно и величаво выступает здесь ободряющая, оздоровляющая, духовная сила христианства. В полную противоположность отрицательному буддийскому взгляду на жизнь, в христианстве высшее благо совпадает с вечною жизнью в Царствии Божием. И если жизнь представляется сравнительно малоценною, то потому лишь, что впереди - сокровище неизмеримо ценнейшее. Не принижая достоинства даже несовершенной земной жизни, - напротив, сводя небо на землю для свершения воли Отца Небесного здесь, как и там, и тем освящая и само земное, христианство от несовершенного, бренного, человеческого и природного, тварного обращает взоры к более и выше, чем естественному. Христианское разумение обретает это высшее в Боге, как абсолютном вечном бытии и абсолютной любви. Отказавшись от горделивых и противоречивых притязаний на спасение путем самоуничтожения, христианин прибегает к Богу - Любви, который устами Кроткого и Смиренного сердцем зовет нас: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные...и найдете покой душам вашим" (Мф. 11:28-29), покой не нирваны, небытия вечного, а жизни в Боге, жизни вечной". В дополнение к книге Кожевникова я позволю себе высказать несколько соображений о буддизме. Нирвана буддистов есть высочайшее сверхмировое начало, столь отличное от нашего бытия, что никакое понятие, заимствованное из области мира, не применимо к нему. На всякий вопрос, есть ли Нирвана личность, разум, бытие и т. п., необходимо отвечать: "Нет". Таким образом, Нирвана есть Божественное Ничто в том смысле, что она есть нечто невыразимое в наших понятиях. Религиозный опыт, сосредоточенный только на Несказанном, на Божественном Ничто, легко может привести к безличной пантеистической мистике. Роковым образом приходит к этому результату буддизм, начинающий свои упражнения для погружения в Нирвану под руководством ложных метафизических учений и болезненных настроений, которые бесповоротно отвращают от мира и личного бытия. Христианский мистический опыт тоже усматривает в Боге невыразимость Его в наших понятиях, так что Бог есть Ничто, как этому учит, так называемое, отрицательное (апофатическое) богословие, систематически выраженное в христианстве в творениях Дионисия Ареопагита. Но Дионисий Ареопагит не останавливается на этом отрицательном результате: он поясняет, что Божественное Ничто есть Сверхчто: Бог не есть личность в нашем смысле ограниченного бытия, но это не значит, что Он безличен, Он есть Сверхличное начало; Он есть даже не бытие, подобное нашему бытию, Он есть Сверхбытие и т. п. Отсюда открывается путь к положительному (катафатическому) христианскому богословию. Если Бог сверхличен, то Ему доступно и личное бытие. Мало того, Он, будучи Единым Богом, трехличен; Он есть сверхлично-личное начало. Противоречия между отрицательным и положительным богословием здесь не получается: если Божественное Единое начало выражается в трех Лицах, то это значит, что Его личное бытие глубоко отлично от нашего ограниченного единоличного бытия и термин личности мы применяем к Нему лишь по аналогии, указывая на то, что все ценное, имеющееся в личном бытии, есть в Боге, однако в такой превосходной степени, что все же нет тождества между понятием тварной личности и понятием Лиц Божественной Троичности. Их отличие от нас есть "металогическая инаковость", согласно понятию, выработанному С. Л. Франком. Перед нами встает теперь вопрос первостепенной важности для всего мировоззрения и для всей нашей жизни. Опираясь на свой мистический опыт, одни лица говорят, что Сверхмировое начало есть Сверхлично-Личное, а другие говорят, что в нем вовсе нет личного аспекта. Кто прав - представители сверхлично-личной или безличной мистики? Перед нами два противника: один из них, христианин, видит больше, а другой, буддист, видит меньше, так что спор в главном пункте сводится к тому, что первый принимает утверждение второго и лишь привносит к нему дополнение, между тем как второй отрицает это дополнение. В таком споре чаще всего заблуждение оказывается на стороне отрицающего: очень часто человек чего-нибудь не видит, гораздо реже он видит то, чего на самом деле нет. Рядом с основной неполнотой и вследствие нее в буддизме есть ряд других видов неполноты и, следовательно, отрицаний, которым христианство противополагает утверждение положительных начал, более легко усматриваемых, чем область Сверхмирового, так что сравнительно легко можно доказать ошибочность этих отрицаний. В самом деле, буддизм отрицает субстанциальную сверхвременность индивидуального я, не видит абсолютных положительных ценностей в мировом бытии, не видит высокого смысла мирового бытия, отрицает абсолютную ценность индивидуального, неповторимого и незаменимого своеобразия каждой личности, как момента, необходимого для гармонической полноты мирового бытия, отрицает свободу и потому не понимает значения греха, как источника производных от него несовершенств нашего эгоистического царства бытия, не усматривает того, что индивидуумы, поскольку они освобождаются от греха эгоизма, способны к свободному соборному творчеству, осуществляющему совершенное добро Царства Божия, красоту, истину, нравственное добро, любовь, полноту жизни. Громадное количество этих отрицаний и обеднений миропонимания и мирочувствия указывает на то, что буддизм стоит на ложном пути. Особенно убедительное косвенное доказательство ложности безличной мистики буддизма заключается в том, что она для объяснения происхождения мира принуждена прибегнуть к явно фантастической конструкции, ничего не объясняющей и только усугубляющей трудности; в самом деле, отвергнув идею Творца и твари и поняв мир, как только зло, только недолжное, философия буддизма вносит зло в само Абсолютное, в котором зарождается непонятная "суета", "волнение", порождающие ничтожный мир, заслуживающий лишь уничтожения. Придя на основании непосредственного свидетельства мистического опыта, а также на основании перечисленных трех групп косвенных доказательств к убеждению в ложности буддийской безличной мистики, мы ищем основную ошибку ее, приводящую ко всем дальнейшим заблуждениям, и находим ее в невидении греха нашей воли, как источника всех остальных видов зла; отсюда возникает невидение своего достоинства (возможность быть грешным есть показатель высокого достоинства человека, самостоятельной свободной воли его), невидение абсолютной ценности своего личного индивидуального бытия и, в связи с этим, невнимание к личному аспекту Сверхмирового начала, невидение Бога. В заключение я сообщу еще из современной литературы содержание статьи "The Gnosis of Buddahood" (в журнале "The Middle Way", октябрь - январь 1948-49) американской буддистки Ananda Jennings. Идеал буддизма, согласно ее статье, есть освобождение от временного процесса, от всего относительного, от всех противоположностей (opposites), от всякого дуализма, напр, познающего и познаваемого (стр. 58). Человеческую личность она понимает не как сверхвременное бессмертное "Я", а только как временный процесс ("I" process, стр. 59). Прекращение этого процесса, уничтожение всяких противоположностей и дуализмов, всякой множественности ведет к состоянию, в котором нет никаких "Я" (Egoless state, стр. 59) и никаких образов (Imagelessness, стр. 60). Это есть "Бессмертная реальная подлинная жизнь" (стр. 56). Как уже сказано было выше, христианская религия понимает Бога в "отрицательном богословии", как абсолютно совершенную сверхвременную жизнь, без всякой множественности; и даже в положительном богословии, говоря о трех Лицах Св. Троицы и о Их внутритроичной жизни, как идеале любви, эти понятия высказываются лишь по аналогии с нашей жизнью, т. е. указывая на то, что в Боге существует все ценное, имеющееся в единодушной любви нескольких личностей, однако в такой сверхмировой форме, которая не тождественна с нашими понятиями. Далее, в своем учении об отношении между Богом и миром христианин может утверждать в определенных и точных понятиях, что Бог творит мир из сверхвременных индивидуальных личностей, наделяя их свободной творческой волей, которая при правильном пользовании ею делает человека достойным стать членом Царства Божия по благодати и творить в блаженном единении с Богом полноту жизни, т. е. совершенную жизнь с бесконечно сложным содержанием. Чтобы понять христианский идеал полноты жизни, нужно различать два вида противоположностей, - одного из них нужно избегать, а другой, наоборот, необходим для богатства жизни. Нередко два элемента мира не только отличаются друг от друга, но и препятствуют бытию друг друга, взаимно уничтожаются. Таково, например, действие двух сил на один и тот же предмет в противоположных направлениях; такова вражда между двумя лицами и т. п. Такую противоположность можно назвать противоборствующей (conflicting). Наличность ее понижает число возможных комбинаций и проявлений жизни, обедняет жизнь. Существуют в мире другие противоположности, не противоборствующие друг другу. Возьмем, например, такие элементы мира, как желтизна, синева, аромат резеды, точка, справедливость и т. п. Каждый из этих элементов исключает весь остальной мир: желтизна есть не синева, не аромат, не точка и т. д. Но это взаимоисключение не есть уничтожение одного бытия другим, не есть сопротивление друг другу. Такие противоположности могут совмещаться в одном и том же пространстве, в одном времени, в одной вещи; одно и то же пространство может быть пропитано голубым светом и ароматом резеды; человеческая душа может быть охвачена одновременно чувством красоты и благоговением и т. п. Эти противоположности ведут к богатству, сложности и разнообразию мира. Их можно назвать дифференцирующими противоположностями. Лица, любящие, как заповедал Иисус Христос, Бога больше себя и ближнего, как себя, следовательно, вполне свободные от эгоизма, суть члены Царства Божия. Они не творят противоборствующих противоположностей; их деятельность посвящена творению дифференцирующих противоположностей, согласимых друг с другом. Любя Бога и друг друга, они единодушно творят гармоническое целое полноты жизни, т. е. жизни, заключающей в себе все согласимые друг с другом содержания бытия. Обладая не материальным, а преображенным телом, которое состоит не из актов отталкивания, а из прекрасного света, прекрасных звуков, ароматов и т. п., они творят только абсолютные ценности, - красоту, знание истины, нравственное добро. Время в Царстве Божием имеет иное строение, чем в нашем царстве несовершенного бытия. Все несовершенное не заслуживает сохранения и потому умирает, отпадает в область прошлого. В Царстве Божием все творимое членами его имеет вполне совершенную абсолютную ценность и потому не отпадает в прошлое, не забывается, постоянно соучаствует в полноте жизни. В нашем царстве бытия мы, эгоистичные существа, творим жизнь, полную недостатков. Однако даже и у нас в природе и в творениях искусства встречается высокая, хотя и не вполне совершенная красота, есть ценные, хотя только частные истины, есть нравственное добро. Поэтому даже и наше царство бытия должно задаваться целью не уничтожения жизни, а обогащения ее путем развития, ведущего посредством преодоления эгоизма к порогу Царства Божия. Лица, вполне освободившиеся от эгоизма, удостаиваются обожения по благодати и вступления в Царство Божие для блаженной вечной жизни в единении с Господом Богом. Буддийский идеал, требующий упражнений, подавляющих любовь ко всему, что есть в мире, кроме задачи уничтожения мира и своего "Я", есть нечто крайне неестественное. Широкое распространение буддизма среди народных масс, вероятно, сохраняется потому, что полное знание об этом идеале существует только среди ученых буддийских аскетов, а простые люди ведут нормальную жизнь, стараясь лишь как и добрые христиане, подавлять в себе дурные наклонности корыстолюбия, властолюбия, зависти и т. п. Надо думать, что буддисты, как и христиане, любят своих детей не только любовью сострадания, но и любовью, задающейся целью развивать содержательность их жизни, обогащать ее, а не вызывать в них отвращение к земному бытию. Всякое заблуждение возникает вследствие каких-либо односторонних интересов, страстей, вообще каких-либо недостатков субъекта. Открытие психологических основ заблуждения объясняет до конца возникновение его и упрочивает знание о том, в чем состоит истина. Психологическое объяснение недостатков буддизма было бы найдено, если бы удалось открыть, какие мотивы отвлекли внимание царевича Сиддхартхи от греха, как первичного зла, и чрезмерно приковали его только к следствию греха, к злу физических страданий. Была ли это изнеженность царевича, ведшего, согласно легенде, жизнь, полную чувственных наслаждений, или гордость, мешающая осознать свою греховность и связанную с нею естественность всевозможных страданий, ответа на этот вопрос нельзя получить вследствие недостатка данных. Почему учение Будды широко распространилось среди азиатских народов, этот вопрос еще более сложен; он требует специальных и притом весьма разнообразных исследований. Останавливаться на нем здесь невозможно, но следует отдать себе отчет о некоторых случаях увлечения буддизмом в современной Европе и Америке. У некоторых представителей европейской культуры мотивом увлечения буддизмом является гордыня. Самолюбивому и гордому человеку стыдно и почти невозможно сказать не только священнику на исповеди, но и самому себе: я завистлив, я честолюбив, или я труслив, неискренен, двоедушен. Гораздо легче вместо того, чтобы отвергнуть только эти стороны своего "Я", начать отвергать ценность всего мира и укорять себя за всякое проявление любви к жизни - за стремление к своему здоровью телесному и душевному, за любовь к семье, к науке, к родине и т. п. На этом пути вместо того, чтобы смиренно склониться перед идеальным ликом Христа и просить Его помощи, человек отказывается от всякого лика и направляется к безличной Нирване. Возможна еще другая форма сочувствия буддизму. Человек, движимый стихийными могучими страстями и нравственно осудивший их в себе, начинает энергично бороться с ними, но после многих лет упорного труда над исправлением своего характера замечает, что он не может преодолеть своих страстей. Тогда у него может явиться мысль, будто буддизм есть истинная религия, указывающая правильную цель - не исправление характера при сохранении любви к жизни и расцвету ее, а совершенное уничтожение личной жизни и всего мира. |
| Помедленнее, пожалуйста, я записываю...(с) |
|
а теперь - о главном: Буддизм – скорее, духовное направление, чем религия, так как понятие Бога в нем не является ни очевидным, ни необходимым. Это отношение к жизни, определяющееся стремлением к абсолюту. Это своего рода область мышления, которая так же хорошо приспосабливается к многочисленным магическим обрядам тибетского ламаизма, как и к строгому, наполненному глубоким содержанием созерцанию японского дзэна. Однако буддизм прежде всего – это учение о человеке, личности, окутанной легендой, Сиддхарта Гаутама, существование которого в период 560—480 гг. до н. э. историками серьезно не оспаривается. Он был сыном царька на границе Непала и Индии, его детство было безмятежным. Нищета и страдания людей глубоко поразили его. Чтобы понять смысл мира, он оставляет все, даже молодую жену и недавно родившегося сына, и начинает вести аскетический образ жизни, который кажется ему таким же напрасным, как и его предыдущая роскошная жизнь. В конце концов он понял, в чем заключается средний путь, истинность которого озаряет его. Именно тогда он становится Буддой, то есть «Пробужденным» – тем, кто нашел истину. Он проповедует более сорока лет, количество его учеников приумножается. Следовательно, буддизм – учение о человеке, который обрел абсолютную мудрость без какого-либо Божественного Откровения, путем собственного размышления. В этом плане буддизм четко отличается от христианства, учение которого тоже создано Человеком, но Богочеловеком, призванным передать Божественное Откровение. Буддизм отличается также и от ислама, пророк которого – Магомет – был человеком, избранным Богом для передачи Откровения Корана. Историческое развитие На протяжении веков буддизм подвергался удивительным изменениям. Его распространение с севера Индии было очень быстрым. С III в. до н. э., до походов Александра Великого, он господствовал над всей Индией вместе с брахманизмом, от которого он происходил, и простирался до берегов Каспийского моря, где сегодня находятся Афганистан и Средняя Азия. Благодаря поддержке буддийского царя Ашоки, который правил в Индии в 273-230 гг. до н. э., миссионеры обратили в веру Цейлон (теперь Шри-Ланка). Затем он очень быстро распространился и в других странах Азии. Связь с Китаем была установлена благодаря торговле шелком. Первая буддийская община в этой стране появилась в период правления династии Хан в 67 г. н. э., однако буддизм прочно установился на севере страны лишь век спустя, а к 300 г. – и на юге, под эгидой аристократии. В 470 г. буддизм провозглашен официальной религией в северном Китае. Затем через Корею он достиг Японии. К этому же времени буддийские монахи Цейлона обратили в эту веру Бирму, а немного позднее – Индонезию. Распространяясь к востоку, буддизм теряет позиции на западе: достигнув Японии, он ослабевает в Индии. В Таиланде и Лаосе он заменил индуизм. В Шри-Ланке и Непале буддизм сосуществует с индуизмом. В Китае он сочетается с даосизмом и конфуцианством, а в Японии – с синтоизмом. В Индии, откуда он произошел, буддисты составляют не более 1% населения – в два раза меньше, чем христиан или сикхов. В Южной Корее буддизм начинает отступать перед христианскими религиями, однако еще сохраняет первое место. В Японии он иногда принимает особые формы, которые мы рассмотрим далее. Одна из них – дзэн. Намного тревожнее положение буддизма в странах коммунистической ориентации. В Китае к 1930 г. насчитывалось 500 тыс. буддийских монахов, а в 1954 г. их осталось не более 2500. В Камбодже красные кхмеры систематически уничтожали буддийских монахов, а во Вьетнаме их влияние значительно ослабело. Очень трудно оценить, что осталось от обрядов и буддийской духовности в этих странах. Известно лишь, что этот удар, нанесенный буддизму, отбросил его на 50 лет назад. Буддизм еще продолжает расширяться в тех странах, где наблюдается демографический рост и где сохраняется приверженность к нему, например в Шри-Ланке, Бирме и Таиланде. Однако в последнее время буддийская духовность вызывает значительный интерес у многих людей на Западе. Учение Будды Размышляя над окружающим миром, Будда пришел к четырем основным выводам (истинам): все есть страдание в этом мире: рождение, старость, болезнь, смерть, союз с тем, кого не любишь, разлука с тем, что любишь, любая форма привязанности; причина страдания заключается в наличии любых желаний, в том числе в желании существовать. Именно желание обрекает нас на бесконечный цикл перевоплощений; прекращение страдания достигается путем освобождения от желаний; чтобы достигнуть этой цели, необходимо придерживаться особой морали. Эта мораль называется «благородный восьмеричный путь»: наше понимание, наши намерения, наша речь, наше поведение, наша жизнь, наши усилия, наши отношения, наше духовное сосредоточение (медитация) — все это должно свидетельствовать о полной чистоте и праведности. Соблюдение этих принципов ведет человека к освобождению от всякой привязанности, что позволяет ему достигнуть нирваны. Буддизм никогда не определял, в чем заключается нирвана. Это слово санскритского происхождения имеет приблизительный смысл угасания, но понятие, которое оно воплощает, не уточнено: известно, что речь идет о забытье или высшем блаженстве. Единственным намерением буддизма является достижение нирваны путем соблюдения морали. Учение Будды не стремится решать вопрос судьбы человека или происхождения мира. Оно чисто утилитарно, и все то, что бесполезно для нашего спасения, его не интересует. Следовательно, буддизм – это прежде всего техника, позволяющая овладеть чувствами и воображением, телом и духом. Цель его – осознать иллюзорный характер мира, чтобы легче освободиться от него. Для этого необходимо соблюдать восемь предписаний «священного пути», которые сами по себе являются техникой: необходимо верить в четыре истины, чтобы не отклониться от пути, начертанного Буддой; необходимо овладеть своей волей, чтобы подавить любое желание чувств или духа; необходимо, чтобы наша речь содействовала освобождению. Надо говорить правду, быть миротворцами и избегать бесполезной болтовни; требуется нравственное поведение, согласующееся с освобождением. Убийство, воровство и прелюбодеяние строго запрещены; наш образ жизни должен свидетельствовать о бескорыстии. Монах не выпрашивает еду, он получает ее от тех, кто ему предлагает, чтобы тоже приблизиться к освобождению; наши усилия должны устремляться к добру и удалять нас от зла; наши отношения не должны идти на поводу наших побуждений и желаний; наша медитация – достижение и венец предшествующего поведения. Медитация сама по себе – техника, известная под названием «йога». Речь идет об овладении своим телом и дыханием, чтобы способствовать духовной концентрации; при этом тело неотделимо от духа. Позы йоги позволяют избежать любого мышечного сокращения, что дает возможность наилучшим образом освободить дух. Следует, однако, отметить, что буддийская медитация не заключается в том, чтобы интенсивно размышлять о какой-нибудь проблеме, а состоит в том, чтобы освободить разум от всего бесполезного, которое его загромождает, то есть от мысли. Поэтому окружение, в котором совершается медитация, всегда чрезвычайно строго: становятся лицом к стене, или устремляют взгляд на небо, просвечивающее в отверстии потолка, или же концентрируют свое внимание на небольшом количестве воды налитой в чашу. Эффективность этой техники достигает максимального значения лишь в общине монахов, которая обеспечивает условия для индивидуальных усилий. Поэтому Будда никогда не обращался к широким слоям населения, а лишь к ограниченному количеству учеников. Именно монахам может открыться доступ к нирване. Можно сказать, что буддизм – это элитарный клерикализм. В социальном плане Будда, в противоположность укоренившемуся мнению, никогда не отбрасывал систему каст, которая была присуща современному ему обществу. Он лишь допустил к духовной практике (и это уже немало) наряду с монахами и всех тех, кто хотел следовать за ним, вне зависимости от касты. По отношению к женщинам буддизм не слишком мягок, так как они являются одной из причин существования привязанности к этому миру и, следовательно, причиной перевоплощения. Лишь с сожалением Будда согласился, что они могут стать монахинями, но только со статусом второй зоны. Что касается мирян, Будда предписывает им помогать общинам монахов. Если миряне будут милосердными, они смогут перевоплотиться в монахов в будущей жизни – иначе они не могут надеяться на спасение. Как видим, буддизм сохраняет от брахманизма и индуизма веру в перевоплощение: после смерти существа обретут жизнь в другом теле в зависимости от достоинства их деяний. Однако буддизм отличается от этих индийских религий полным отсутствием ссылки на какого-либо бога: нет ни культа, ни догматов, а сам Будда не является ни пророком, ни спасителем. Это человек, который смог самостоятельно найти объяснение жизни и способ достижения нирваны. Буддизм может, с определенной точки зрения, рассматриваться как еретическое направление, возникшее из индийских религий, или же как атеистическая философия. Его пессимистическая доктрина в конечном итоге была отброшена индийцами – возможно, потому что она не удовлетворяла их настойчивой духовной потребности. Различные формы буддизма Распространяясь по миру, охватывая народы Индии, Китая, Японии, Тибета или Юго-Восточной Азии, учение Будды приобретало различные оттенки. По своему географическому происхождению, а также по тому, что в нем существует теория перевоплощения, буддизм примыкает к брахманской культуре Индии. Однако индийцы, глубоко религиозные и привыкшие жить в настоящих джунглях божеств, выдержали буддийскую доктрину не более нескольких веков, – доктрину, которая легко обходится без богов и слишком часто находит удовольствие в отказе от существования, что плохо сочетается с безудержной жизненной силой индийцев. Первоначальная форма буддизма, суровая и элитарная, еще существует в Шри-Ланке, Таиланде, Камбодже и Бирме. Она называется «тхеравада», что означает «школа старой мудрости». Известно еще одно название этого направления – хинаяна («Малая колесница»). С начала христианской эры появилась более широкая и более гуманистическая трактовка буддизма, которая дополняет писаную традицию устными наставлениями, переданными Буддой своим самым верным ученикам – это «Большая колесница», или махаяна. Наконец, к VII в. в направлении махаяна выделилась третья форма буддизма – тантризм, который объединяет в буддизме магические и мистические обряды. Это направление называют также ваджраяна – «Алмазная колесница»; оно стремится сократить трудный путь к нирване. Одним из направлений тантрического буддизма является тибетский ламаизм. Все эти формы буддизма признают учение Будды, однако, как мы увидим далее, их представления о средствах достижения нирваны коренным образом отличаются друг от друга. Буддизм «Тхеравада» Это первоначальный буддизм во всей своей строгости и чистоте. Согласно его предписаниям, только монахи и, при наличии духовного покровительства, монахини могут надеяться, благодаря своей отрешенной жизни, на достижение достигнуть нирваны. Вот почему монахи так многочисленны в тех странах, где практикуется тхеравада. Что касается других, то они должны ждать доступа к нирване до ближайшего перевоплощения, стремясь к тому, чтобы их заслуги позволили им возродиться в облике монаха. Эта суровая доктрина тхеравады, правду говоря, плохо соответствовала двум глубоким устремлениям человека: жизнелюбию и религиозности. Что касается жизнелюбия, которое не чуждо и жителям Азии, то обычно религии находят компромисс между идеалом отрешения и земными обрядами. В отношении религиозности: такая страна, как Бирма, удовлетворяет эту потребность благодаря культу «натов» – разновидности добродетельных гениев, иногда обожествленных смертных, которым публично воздают почести в пагодах. Однако, рассуждая логически, можно признать, что эта народная религия находится в противоречии с изначальным буддизмом. Со времени своего зарождения буддизм претерпел различные толкования. В результате произошел настоящий раскол, хотя и вполне мирный, и возникло направление «махаяна». Буддизм «Большой колесницы» (махаяна) Основное новшество, внесенное «Большой колесницей», — возможность для достигших озарения не сразу же впасть в нирвану, а посвятить себя из чистого великодушия воспитанию и спасению других людей. Те, кто таким образом временно отказывается от своего освобождения, — истинно святые, которые заслуживают особого почитания. Спасение становится коллективным делом, что и объясняет название «Большая колесница» в противоположность «Малой колеснице» (так в шутку назвали тхераваду, которая может привести людей к спасению только в индивидуальном порядке). Хотя все формы буддизма опираются на одно и то же учение, обряды махаяны отличаются метафизическим почитанием Будды и бодхисаттв. Бодхисаттвы очень похожи на Будду, поэтому часто встречаются храмы с «тысячей будд», в которых многочисленные статуи, внешне схожие, различаются лишь именами. Ничто не мешает включать в число бодхисаттв различных «божеств», отношение которых с Буддой трудно установить. Так обстоит дело и с Амитабхой, известной в Японии под именем Амида, – мифической бодхисаттвой, которая правит «раем Запада» (явное заимствование из даосизма). Приверженцы китайской буддийской секты «Чистая земля» («Цзинту цзун») считают, что можно обеспечить себе вечную жизнь, веря в это божество. Это положение противоречит первоначальному буддийскому учению, отрицающему какую-либо жизнь после достижения нирваны. По-видимому, под влиянием даосизма китайский буддизм выработал то, что стало называться «дзэн»: отрицание любого рассуждения и любого учения является важной частью его принципов, так как за основу берется только осознание тщетности всех вещей. Степень различия между формами буддизма неодинакова, однако наиболее оригинальным, несомненно, является тантрический буддизм. Тантрический буддизм Называемый также «ваджраяна», или «Алмазная колесница», тантрический буддизм часто ассоциируется с разновидностью индуизма, основанной на поклонении женского проявления божества, «шакти», которое символизирует космическую энергию. Возможно, это одна из причин его распространения в Тибете, общественная система которого – матриархат, допускающий даже полиандрию (многомужество). Тантризм иногда примыкает также к буддизму махаяна, так как тот допускает существование бодхисаттв. Однако тантризм обладает и оригинальными чертами, позволяющими выделить его в особое направление в буддизме. Это прежде всего изотерическая система, то есть тайное учение, к которому верующего приобщают духовные наставники. Оно основано на соблюдении ритуалов (различных и весьма сложных), которые могут обеспечить мгновенный доступ, быстрый, как молния «ваджра», к освобождению нирваны. Среди этих ритуалов наиболее известный – многократное повторение священных фраз – мантр. Тексты мантр содержатся в знаменитых молитвенных мельницах. Использование йоги, различных способов магии является частью тантрических обрядов, в которых значительное место занимает символизм форм и цвета. Контактируя с анимистскими религиями Тибета, с культом «бонпо», буддизм обрел особую форму – ламаизм. Речь идет о теократической или, скорее, клерикальной организации общества, где монахи (ламы) обладают и мирской, и духовной властью. В историческом плане различают два больших направления: «красношапочники», которое допускает брак лам, и, как реакция на некоторое примиренчество, «желтошапочники» («гелугпа» – «те, кто придерживается метода добродетели»). «Желтошапочниками» руководит Далай-лама («лама-океан»), эмигрировавший в 1959 г. после китайской оккупации. Панчен-лама («лама-жемчужина») руководит «красношапочниками», которые находятся в меньшинстве. Эти духовные вожди – перевоплощения бодхисаттв. После смерти они возрождаются в ребенке, которого ламы обнаруживают благодаря своей способности опознавать признаки покойного в ребенке. Согласно тибетским верованиям, перевоплощение в ребенка происходит через 49 дней после смерти ламы. Это срок, необходимый для того, чтобы сознание покойника потеряло всякую возможность сообщения с миром. Так же перевоплощаются и многие другие ламы. Известен случай, когда испанский ребенок, родители которого обратились в буддизм, был избран воплощением ламы (это произошло в 1987 г.). Ламаизм некогда широко распространился в Китае и Монголии. Сегодня он остается преимущественно религией тибетцев. В Бутане он официально признан и именно здесь существует в наиболее чистом виде. Самыми зрелищными и оригинальными проявлениями ламаизма являются церемонии по случаю смерти и многочисленные праздники, связанные с историческими или мифическими событиями. Во время этих пестрых праздников ламы исполняют символические танцы: они медленно вращаются, чтобы сокрушить зло, потрясают мечом, чтобы разбить цепи невежества, и носят маски смерти, чтобы напомнить, что жизнь – лишь иллюзия. В России ламаизм существует с давних пор и насчитывает большое количество приверженцев. Практика буддизма Строжайшим образом путь, начертанный Буддой для достижения освобождения нирваной, требует абсолютного отрешения, которое возможно только в монашеской жизни. Это очень похоже на учение индуизма, от которого произошел буддизм, где только брахман, деяния которого были идеальны, может освободиться от бесконечного цикла перевоплощений. Различие заключается в том, что буддизм не связывает себя системой каст и каждый (независимо от касты и социального положения) может стать монахом. Как мы уже отмечали, буддизм, таким образом, является «клерикальным элитизмом», в котором только монахи могут полностью посвятить себя своей религии. Буддизм, зная человеческую природу, никогда не допускал мысли о том, что все его верующие могли бы одновременно пожелать стать монахами: такая вероятность поставила бы перед обществом проблему выживания. Иначе говоря, практика буддизма остается ограниченной и опосредованной и полностью реализуется лишь в монашестве. Для подавляющего большинства буддийского населения, которое не вступает в монастырь, культ заключается в наилучшем соблюдении морали, участии в праздниках и содействии монахам путем приношений. Регулируемая таким образом жизнь позволяет этим людям надеяться в будущей жизни стать монахами и получить освобождение. Описать культ буддизма – значит – описать жизнь монахов. Далее в главе о духовенстве будут даны общие сведения о монахах «Малой колесницы» и тибетских ламах. Здесь же приведен пример монашеской жизни японского дзэн – буддизма, который примыкает к «Большой колеснице». Если сравнивать монашескую жизнь в буддийских и христианских монастырях, то можно обнаружить аналогию в формах (уважение к вышестоящему, смирение, строгость и т. д.). Буддийские монахи не обращаются ни к какому богу и не стремятся помочь другим своими молитвами. Культ дзэн Именно в монастырях буддизм дзэн практикуется в наиболее чистом виде. Таких монастырей в Японии насчитывается около 60. Обычно они размещены в тихих горных уголках или среди лесов. Они примыкают к двум различным школам: самая значительная – школа Ринзай, более динамичная; другая школа – школа Сото, более статичная. В каждой школе цель дзэн – достигнуть озарения, которое познал сам Будда. Эта цель достигается через практику дзэн, что неточно переводят как «размышление», так как речь идет не о том, чтобы думать, а чтобы освободить свой разум. Оказывается, сон не лучший способ добиться этого, поэтому монахов будят очень рано, между 3 и 4 часами утра, с помощью колокольчика или деревянной трещотки. Основное духовное упражнение – медитация сидя (по-японски «дзадзэн»). День начинается особой процедурой, которая длится 30-40 минут – промежуток времени, за который сгорает палочка ладана. Монахи садятся на подушечку, ноги складывают в позу лотоса, спина прямая. Чтение тихим голосом молитв (сутр) чередуется с периодами тишины. В школе Ринзай монахи сидят лицом друг к другу, но опускают глаза к земле, а в школе Сото они сидят лицом к стене. Это самое значительное различие между двумя ритуалами. Во время медитации один из монахов медленно ходит, держа вертикально перед собой палку. Те, кто хочет получить стимулирующий удар, просят это сделать поклоном головы. Тот, кто засыпает, тоже получает удар палкой. После первого дзадзэна, к 4.30 или 5 часам, – завтрак в полнейшей тишине. Три деревянные чашки, покрытые черным лаком, располагаются перед каждым монахом: одна для «сливового чая» (разновидность отвара, считающегося десертом); другая – для рисовой каши, такой жидкой, что можно увидеть, как в ней отражается потолок; третья чашка, самая большая, с теплой водой, используемой для мытья двух первых, однако для смирения монахи должны выпить половину этой воды после мытья. Утром монахи читают священные книги и работают по хозяйству. Двенадцать дней в месяц те, кто получил особое разрешение учителя, группами отправляются собирать еду для общины. Они надевают широкополые соломенные шляпы, на животе – холщовая сумка для приношений (обычно подают рис и деньги). Они не должны ничего просить и благодарить дающих: дающим воздается за помощь монахам. Двенадцать раз в месяц настоятель монастыря читает своим ученикам проповедь. Монашеская жизнь не следует недельному ритму. Шесть дней месяца – 4, 9, 14, 19, 24 и 29-е – являются выходными днями. В эти дни монахи моются и полностью бреют голову, 14-го числа и в последний день месяца монахи отдыхают, разрешается дольше поспать; в эти дни они делают генеральную уборку монастыря. Каждый день обед начинается в 11 часов. Он включает 30% риса и 70% зерновых, фасолевый суп и овощи в рассоле (по-японски – «цукемоно»). Послеобеденное время посвящено физическому труду до 17 или 18 часов. Суровое правило предписывало, что вместо ужина необходимо греть живот кирпичом, нагретым на огне («яку-секи» – камень-лекарство), однако ввиду сурового климата в Японии эта процедура заменяется легкой едой, которая заканчивается до 18 часов. С 18 до 21 часа проводится второй сеанс дзадзэн, сопровождаемый, как и утром, приветствием учителя («сан-дзэн»). После этого сеанса медитации монахи трижды падают ниц перед статуей Манджушри (бодхисаттва-наставник всех будд, идущих на покой). Отметим, что по некоторым поводам и в зависимости от монастыря совершаются и другие ритуалы с целью проявить союз тела и духа. Например, стрельба из лука является упражнением йоги, а не спортом: каждый жест долго изучается и задача не столько в том, чтобы попасть в мишень, сколько строго соблюдать церемониал. Точно так же церемония чая, пришедшая из Китая вместе с дзэн, является средством внутренней концентрации, ведущей к совершенству. Этот краткий обзор различных форм буддизма и его культов, совершаемых верующими, показывает, до какой степени он способен приспосабливаться к различным культурам и верованиям. Это объясняется тем, что буддизм – скорее философия, чем религия, и он может вписываться в такие разные религиозные рамки, как тибетские верования, пронизанные суеверием и магией, или приспосабливаться к другой крайности – культам современной Японии. Мы увидим далее при описании новых японских религиозных движений, как буддизм находит себе место в этом контексте. Однако, если буддизму удается довольно полно удовлетворять духовные запросы своих учеников, он никогда не был способен дать интеллектуально исчерпывающий ответ относительно человеческой природы или смысла нашего существования на Земле. Буддизм остается философией, то есть учением, восхваляющим мораль, однако он не лишен догматов, так как вера в последовательное перевоплощение не относится к области рационального. Буддийские праздники Буддийские праздники в большей или меньшей степени окрашиваются фольклором тех стран, где они проходят. В частности, ламаистский буддизм Тибета и буддизм «большой колесницы» в Китае предусматривают многочисленные праздники, в которых смешиваются сложные элементы, исторические или легендарные, а также сохранившиеся от анимистских культов. Остановимся лишь на чисто буддийских праздниках, которые отмечаются во всех странах, где эта религия распространена. Эти праздники сравнительно немногочисленны, так как, согласно традиции, три основных события в жизни Будды – его рождение, его озарение и его погружение в нирвану – произошли в один день. Буддийские праздники приходятся на дни полнолуния и обычно соотносятся с лунным календарем. В течение года отмечаются четыре основных праздника. Перечислим их в хронологическом порядке: в феврале — марте, в полнолуние 3-го лунного месяца, — праздник Магха пуджа (буквально: «праздник месяца магха»), посвященный открытию Буддой принципов своего учения 1205 монахам; в мае, 15-го числа 6-го лунного месяца, – праздник Будда джаянти (буквально: «годовщина Будды»), посвященный, его рождению, озарению и погружению в нирвану; в июле — сентябре проходит праздник, знаменующий начало буддийского поста. Этот трехмесячный период, который обычно совпадает с сезоном дождей, посвящен медитации, и монахи лишь в исключительных случаях выходят из своих монастырей. В дни этого праздника родственники монахов приносят им многочисленные дары. Именно во время этого поста подростки проходят традиционную «стажировку» в монастыре; в октябре или ноябре празднуют окончание поста (праздник называется Катхина). Это веселый праздник, известный своими фейерверками. В Бангкоке на реку выплывают пышно убранные «королевские лодки». Во всех монастырях монахам выдают новую одежду или ткань. Церемонии предусматривают общую трапезу верующих на территории храма, процессию вокруг пагоды и чтение священных текстов – сутр. |
| И я. В блокнотик. |
|
... и о САМОМ ГЛАВНОМ: необходимо верить в четыре истины, чтобы не отклониться от пути, начертанного Буддой; необходимо овладеть своей волей, чтобы подавить любое желание чувств или духа; необходимо, чтобы наша речь содействовала освобождению. Надо говорить правду, быть миротворцами и избегать бесполезной болтовни; требуется нравственное поведение, согласующееся с освобождением. Убийство, воровство и прелюбодеяние строго запрещены; наши усилия должны устремляться к добру и удалять нас от зла; |
|
... боюсь, недостаточно подробно ... как-то сумбурно все изложил ... надо попробовать еще ... но на этот раз тщательнее проработать детали, разъясняющие основные моменты, которые только кажцтся второстепенными деталями .... но если их прочитать 100, 200, ... 1000 раз, то свет истины пробъет корку застарелых догм ... ... итак, приступаю к подробному изложению: ... |
| закройте уже это кто-нибудь... (( |
|
БУДДИЗМ Буддизм - религиозно-философское учение, которое возникло в Индии в 6-5 веках до н.э. Входит в Сань цзяо - одну из трех главных религий Китая. Основатель буддизма - индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т.е. пробужденного или просветленного. Буддизм возник на северо-востоке Индии в областях добрахманистской культуры. Буддизм быстро распространился по всей Индии и достиг максимального расцвета в конце I тысячелетия до н. э - начале I тысячелетия н.э. Буддизм оказал большое влияние на возрождавшийся из брахманизма индуизм, однако был вытеснен индуизмом и к XII веку н.э. практически исчез из Индии. Основной причиной этого стало противопоставление идей буддизма освященному брахманизмом кастовому строю. Одновременно, начиная с III века до н.э., он охватил Юго-восточную и Центральную Азию и частично Среднюю Азию и Сибирь. Уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 18 сект, разногласия между которыми вызвали созыв соборов в Раджагрихе в 447 г до н.э., в Вайшави в 367 г до н.э., в Паталирутре в 3 веке до н.э. и привели в начале нашей эры к разделению буддизма на две ветви: Хинаяну и Махаяну. Хинаяна утвердилась в основном в юго-восточных странах и получила название южного буддизма, а Махаяна - в северных странах, получив название северного буддизма. Распространение буддизма способствовало созданию синкретических культурных комплексов, совокупность которых образует так называемую буддийскую культуру. Характерной особенностью буддизма является его этико-практическая направленность. С самого начала буддизм выступил не только против значения внешних форм религиозной жизни и прежде всего ритуализма, но и против абстрактно-догматических исканий, свойственных, в частности, брахманийско-ведийской традиции. Вкачестве центральной проблемы в буддизме была выдвинута проблема бытия личности. Стержнем содержания буддизма является проповедь Будды о четырех благородных истинах. Разъяснению и развитию этих положений и, в частности, заключенному в них представлению об автономии личности, посвящены все построения буддизма. Страдание и освобождение представлены в буддизме как различные состояния единого бытия: страдание - состояние бытия проявленного, освобождение - непроявленного. То и другое, будучи нераздельным, выступает, однако, в раннем буддизме как психологическая реальность, в развитых формах буддизма - как космическая реальность. Освобождение буддизм представляет себе прежде всего как уничтожение желаний, точнее - угашение их страстности. Буддийский принцип так называемого среднего (срединного) пути рекомендует избегать крайностей - как влечения к чувственному удовольствию, так и совершенного подавления этого влечения. Внравственно-эмоциональной сфере господствующей в буддизме оказывается концепция терпимости, относительности, с позиций которой нравственные предписания не являются обязательными и могут быть нарушены. В буддизме отсутствует понятие ответственности и вины как чего-то абсолютного, отраженьем этого является отсутствие в буддизме четкой грани между идеалами религиозной и светской морали и, в частности, смягчение или отрицание аскетизма в его обычной форме. Нравственный идеал буддизма предстает как абсолютное непричинение вреда окружающим (ахинса) , проистекающее из общей мягкости, доброты, чувства совершенной удовлетворенности. Винтеллектуальной сфере буддизма устраняется различие между чувственной и рассудочной формами познания и устанавливается практика так называемого созерцательного размышления (медитации) , результатом которого является переживание целостности бытия (неразличения внутреннего и внешнего) , полная самоуглубленность. Практика созерцательного размышления служит, таким образом, не столько средством познания мира, сколько одним из основных средств преобразования психики и психофизиологии личности. В качестве конкретного метода созерцательного размышления особенно популярны дхьяны, получившие название буддийской йоги. Состояние совершенной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолютной независимости внутреннего бытия - положительный эквивалент угашения желаний - есть освобождение, или нирвана. В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, неотделимой от окружающего мира, и признание бытия своеобразного психологического процесса, в который оказывается вовлеченным и мир. Результатом этого является отсутствие в буддизме противоположности субъекта и объекта, духа и материи, смешение индивидуального и космического, психологического и онтологического и одновременно подчеркивание особых потенциальных сил, таящихся в целостности этого духовно-материального бытия. Творческим началом, конечной причиной бытия оказывается психическая активность человека, определяющая как образование мироздания, так и его распад: это волевое решение "Я", понимаемого как некая духовно-телесная целостность. Из неабсолютного значения для буддизма всего существующего безотносительно к субъекту, из отсутствия созидательных стремлений у личности в буддизме следует вывод, с одной стороны, о том, что бог как высшее существо имманентен человеку и миру, с другой - что в буддизме нет надобности в боге как творце и спасителе, то есть вообще как безусловно верховном существе, трансцендентном этой общности. Из этого вытекает также отсутствие в буддизме дуализма божественного и небожественного, бога и мира. Начав с отрицания внешней религиозности, буддизм в ходе своего развития пришел к ее признанию. При этом произошло отождествление высшей реальности буддизма - нирваны - с Буддой, который из олицетворения нравственного идеала превратился в его личное воплощение, став, таким образом, высшим объектом религиозных эмоций. Одновременно с космическим аспектом нирваны возникла космическая концепция Будды, сформулированная в доктрине трикаи. Буддийский пантеон начал разрастаться за счет введения в него всякого рода мифологических существ, так или иначе ассимилирующихся с буддизмом. Культ, охватывающий все стороны жизни буддиста, начиная от семейно-бытовой и заканчивая праздниками, особенно усложнился в некоторых течениях Махаяны, в частности в ламаизме. Очень рано в буддизме появилась сангха - монашеская община, из которой с течением времени выросла своеобразная религиозная организация. Наиболее влиятельная буддийская организация - созданное в 1950 году всемирное братство буддистов. Литература буддизма обширна и включает сочинения на пали, санскрите, гибридном санскрите, сингалезском, бирманском, кхмерском, китайском, японском и тибетском языках. Будда Гаутама, известный также как Шакьямуни, жил 2500 лет назад в пограничной области между Индией и Непалом. Он не был Творцом или Богом. Он был просто человеком, сумевшим понять жизнь, являющуюся источником всевозможных внешних и внутренних проблем. Он смог преодолеть все собственные проблемы и ограничения и реализовать все свои возможности, чтобы помогать другим наиболее эффективно. Так он стал известен как Будда, т.е. тот, кто является полностью просветленным. Он учил, что каждый может достичь этого, ибо каждый обладает способностями, возможностями или факторами, позволяющими произойти подобной трансформации, т.е. каждый обладает "природой будды". Каждый обладает умом, а значит способностью понимать и знать. Каждый обладает сердцем, а значит способностью проявлять чувства по отношению к другим. Каждый обладает способностью общения и определенным уровнем энергии - способностью действовать. Эти способности являются основным рабочим материалом, имеющимся у каждого, включая животных и насекомых, и хотя у отдельных индивидуумов они могут быть ограничены, тем не менее каждый может развить свои способности и преодолеть ограничения с целью наиболее полной реализации собственных возможностей. Будда понимал, что все люди неодинаковы и обладают разными характерами и склонностями, и поэтому он никогда не выдвигал какую-либо одну догматическую систему, а обучал различным системам и методам в зависимости от индивидуальности обучаемого. Он всегда поощрял людей проверять их на собственном опыте и ничего не принимать на веру. Буддизм развивался в Индии в общем контексте индийской философии и религии, включавшей также индуизм ч. джайнизм. Хотя буддизм имеет некоторые общие черты с этими религиями, тем не менее существуют принципиальные различия. Прежде всего в буддизме в отличие от индуизма не содержится идея кастовости, но как было отмечено выше, содержится идея равенства всех людей с точки зрения обладания ими одинаковыми возможностями. Как и индуизм, буддизм говорит о карме, но сама идея кармы здесь совершенно иная. Это не идея судьбы или рока, подобно исламской идее кизмата, или божьей воли. Этого нет ни в классическом индуизме, ни в буддизме, хотя в. современном популярном индуизме она иногда приобретает такое значение вследствие влияния ислама. В классическом индуизме идея кармы ближе к идее долга. Люди рождаются в различных жизненных и социальных условиях вследствие принадлежности к разным кастам (к касте воинов, правителей, слуг) или рождаются женщинами. Их карма, или долг, - в специфических жизненных ситуациях следовать классическим образцам поведения, описанным в "Махабхарате" и "Рамаяне", великих эпических произведениях индуистской Индии. Если кто-либо действует, например, как совершенная жена или совершенный слуга, тогда в будущих жизнях его положение, вероятно, будет лучше. Буддийская идея кармы совершенно отлична от индуистской. В буддизме карма означает "импульсы", которые побуждают нас что-либо делать или думать. Эти импульсы возникают как результат предшествующих привычных действий или поведенческих моделей. Но поскольку нет необходимости следовать каждому импульсу, наше поведение не является строго детерминированным. Такова буддийская концепция кармы. И в индуизме, и в буддизме содержится идея перерождения, но понимается она по-разному. В индуизме мы говорим об атмане, или "я", перманентном, неизменном, отдельном от тела и ума, всегда одном и том же и переходящем из жизни в жизнь; все эти "я", или атманы, едины со вселенной, или Брахмой. Следовательно, многообразие, которое мы видим вокруг нас - иллюзия, ибо в реальности все мы едины. Буддизм трактует эту проблему иначе: не существует неизменное "я", или атман, переходящее из жизни в жизнь: "я" существует, но не как плод фантазии, не как нечто непрерывное и постоянное, переходящее из одной жизни в другую. В буддизме "я" можно уподобить изображению на киноленте, где существует непрерывность кадров, а не непрерывность переходящих из кадра в кадр объектов. Здесь неприемлема аналогия "я" со статуей, перемещающейся, как на конвейере, из одной жизни в другую. Как было сказано, все существа равны в том смысле, что все они имеют одинаковые возможности стать буддой, однако буддизм не провозглашает, что все тождественны или едины в Абсолюте. Буддизм говорит, что каждый индивидуален. Даже став буддой, он сохраняет свою индивидуальность. Буддизм не утверждает, что все является иллюзией: все подобно иллюзии. Это серьезное отличие. Предметы подобны иллюзии в том смысле, что они кажутся твердыми, постоянными и конкретными, тогда как в действительности они не таковы. Предметы не являются иллюзией, поскольку иллюзорная пища не наполнит наш желудок, а реальная пища наполнит. Другое значительное отличие состоит в том, что в индуизме и буддизме особое значение придается разным видам деятельности, ведущим к освобождению от проблем и трудностей. В индуизме обычно подчеркиваются внешние физические аспекты и техники, например, различные асаны в хатха-йоге, в классическом индуизме - очищение путем омовения в Ганге, а также режим питания. В буддизме большое значение придается не внешним, а внутренним техникам, воздействующим на ум и сердце. Это видно на примере таких выражений, как "развитие доброго сердца", "развитие мудрости для видения реальности" и т.д. Это различие проявляется также о подходе к произнесению мантр - особых санскритских слогов и фраз. В индуистском подходе акцент делается на воспроизведение звука. Со времени Вед считалось, что звук вечен и обладает своей собственной огромной силой. В противоположность этому в буддийском подходе к медитации, включающей мантры, особое внимание уделяется развитию способности к концентрации с помощью мантр, а не звуку как таковому. В течение своей жизни Будда обучал разным методам, но как и в случае с учениями Иисуса Христа, при жизни Будды ничего не было записано. Через несколько месяцев после ухода Будды собрались 500 его учеников (позднее это собрание стало известно как Первый буддийский совет) , чтобы устно утвердить то, чему учил Будда. Ученики по памяти воспроизводили различные отрывки услышанных ими священных текстов. Несмотря на то, что это собрание текстов, известное под названием "Трипитака", или "Три корзины", было воспроизведено по памяти и официально утверждено уже в этот ранний период, записано оно было значительно позже. Например, палийский конон был записан в начале 1 в. н.э. в Шри Ланке. Причиной этого было то, что письменный язык использовался в то время только в коммерческих или административных целях и никогда не использовался для научных целей или целей обучения. Эти тексты сохранялись в памяти, причем определенные группы людей в монастырях были ответственны за сохранение различных текстов. Не все учения Будды передавались устно так открыто. Считалось, что некоторые из них предназначены для будущего, поэтому они изустно передавались из поколения в поколение учителями и учениками более тайно. Иногда учения Будды, обнародованные в значительно более позднее время, подвергаются критике. Критика поздних буддийских учений как неаутентичных на основании того аргумента, что только ранние буддийские источники содержат подлинные слова Будды, представляется несостоятельной. Ибо если "ранние" буддисты заявляют, что позднейшие традиции неаутентичны, потому что основаны на устной традиции, то этот же аргумент может быть использован и в отношении ранних учений, т.к. они тоже не были записаны самим Буддой, а передавались устной традицией. Тот факт, что различные тексты Будды были записаны на разных языках и в разных стилях, также не ставит под сомнение их подлинность, т.к. сам Будда говорил, что его учения следует сохранять на том языке, который принят в данном обществе, с учетом свойственного этому обществу стиля. Особое значение всегда должно придаваться смыслу, а не словам, текст не должен нуждаться в дополнительном толковании. Эта первая группа учений, которая передавалась устно и открыто, со временем была записана и образовала основу направления, известного как Хинаяна. Различные расколы и менее значительные расхождения в трактовке основных положений привели к разделению Хинаяны на 18 школ, в которых на различных индийских диалектах передавались незначительно отличающиеся друг от друга тексты. Школа Тхеравады, например, попав в Шри-Ланку и в Юго-Восточную Азию, сохраняла свои учения на языке пали, а школа Сарвастивады, получившая распространение в Центральной Азии, использовала санскрит. Хинаяна, общий термин для названия этих 18 традиций, означает "Скромная колесница". Обычно, Хинаяна переводится как "Малая колесница", однако нет нужды придавать этому слову уничижительный оттенок. Колесница означает "движение ума", т.е. путь мышления, чувства, действия и т.д., который ведет к определенной цели. Она скромная в том смысле, что предполагает методы достижения скромной, а не высшей цели. Она существует для тех, кто просто работает над преодолением своих собственных проблем, т.к. для них было бы непосильно работать с целью преодоления всеобщих проблем. Вместо того, чтобы стремиться стать буддой, они стремятся стать освобожденными людьми (на санскрите "архат") . Будда учил, что в текущую мировую эпоху появится 1000 будд. В системе Хинаяны утверждается, что для того, чтобы стать буддой, необходимо следовать пути бодхисаттвы, т.е. полностью посвятить себя оказанию помощи другим к самоусовершенствованию, чтобы делать это наилучшим образом; однако все 1000 мест уже заняты. Следовательно, работать для того, чтобы стать буддой в текущей эпохе нет смысла, поэтому следует стремиться к тому, что является практически достижимым, т.е. стремиться стать освобожденным человеком. Далее, Будда учил, что когда человек достигает нирваны, или освобождается от собственных проблем, тогда поток сознания прерывается или гаснет подобно свече. Это помогает людям, не преследующим высшие цели, не быть подавленными страхом, а также дает им возможность ощутить, что действительно наступит конец их страданиям, и таким образом вступить на путь Хинаяны. В записанных позднее учениях Махаяны ("Просторная колесница*) те 1000 будд, о появлении которых говорил Будда, рассматриваются как основатели мировых буддийских религий. Кроме них появится также множество других будд, которые не будут основателями мировых буддийских религий; стать одним из этих будд возможно. Более подготовленных учеников Будда наставлял, как стать буддой: это означает не только преодоление собственных проблем, но и собственных ограничений, а также максимальную реализацию возможностей по оказанию помощи ближним. Будда учил, что прекращение потока сознания после достижения паринирваны означает прекращение существования потока сознания в его прежнем качестве. Таким образом, поток сознания вечен, как и жизнь, наполненная помощью ближним. Итак, первой записанной системой учений была Хинаяна. В ней содержатся основополагающие учения, признаваемые также и Махаяной, а именно: все учения. о карме (причинно-следственная связь) ; все правила этической самодисциплины, включая правила монастырской дисциплины для монахов и монахинь; анализ деятельности умственной и эмоциональной сфер; указания как развить способности к концентрации, а также как достичь мудрости, чтобы преодолеть заблуждения и увидеть реальность. Учения Хинаяны включают также способы развития чувства любви и сострадания. Любовь определяется как желание счастья другим людям, а сострадание - как пожелание другим людям освободиться от их проблем. Махаяна развивает эти положения, добавляя к ним принятие на себя ответственности за действенную помощь другим людям, не ограничиваясь только пожеланием им добра. Поскольку вследствие свойственных человеку ограничений он не в состоянии оказывать другим максимальную помощь, особое внимание Махаяна уделяет раскрытию сердца индивидуума с помощью бодхичитты. Бодхичитта означает установку стать буддой, другими словами сердце, стремящееся к преодолению всех присущих личности ограничений и к реализации всех возможностей с целью оказания наибольшей помощи каждому.. Как уже упоминалось, учения Хинаяны передавались 18 различными школами, которые развились исторически в результате возникавших в ходе церковных Соборов разногласий. В полном объеме до нашего времени сохранилась традиция Тхеравады, или "Учение старейшин". В наши дни она распространена в Юго-Восточной Азии, особенно в Шри-Ланке (Цейлон) , Мьянмаре (Бирма) , Таиланде, Кампучии (Камбоджа) и Лаосе. В Шри-Ланку и Мьянмар учения этой школы попали в середине III в. до н.э. с помощью индийского короля Ашоки. В более поздний период в обеих этих странах ощущались влияния учений Махаяны, включая тантру, попавшие сюда из восточной Индии, однако эти влияния были незначительными. В середине XI в., когда был построен буддийский город Паган, в Мьянмаре произошло возрождение традиции Тхеравады. До начала XIII в. Таиланд состоял из нескольких небольших королевств, испытывавших определенные буддийские влияния со стороны соседних с ним Мьянмара и Кампучии. После объединения страны в середине XIII в. король пригласил из Шри Ланки представителей традиции Тхеравады. В XVIII в. Шри-Ланка обратилась к Таиланду с целью возрождения преемственных линий посвящения в монашеский сан, ослабевших за период колониального правления европейцев. Первым индуистским государством Юго-Восточной Азии в 1 в. н.э. было Кхмерское королевство (Кампучия) . Его власть распространялась на Кампучию, Южный Вьетнам, Таиланд, Малайский полуостров. К концу IV в. в этом регионе широко распространились Махаяна, индуизм, а также, в некоторой степени, Тхеравада. Затем последовал период упадка, после чего буддизм достиг расцвета в IX в. В конце XII в. и в начале XIII в. один из кхмерских королей, оказывавших покровительство Махаяне, построил огромный комплекс храмов в Ангкоре. В середине XIII в. Таиланд захватил Кампучию и с тех пор там преобладает традиция Тхеравады. В середине XIV в. член правившей в Лаосе королевской фамилии находился в изгнании в Кампучии. Вернувшись на родину и став королем, он распространил там традицию Тхеравады. Ранее, в 1 и II вв. до н.э., Тхеравада попала в северный Вьетнам морским путем непосредственно из Индии, однако вскоре ее вытеснила китайская форма Махаяны. Во II - III вв. Тхеравада из Индии попала в Индонезию, причем как и в Кампучии здесь примешивались некоторые элементы Махаяны и индуизма. Однако вскоре Махаяна опять стала преобладающей формой буддизма в этой стране. Несколько позже я более подробно остановлюсь на истории буддизма во Вьетнаме и Индонезии. Такова общая схема распространения Тхеравады в Юго-Восточной Азии. В основном она распространялась из Индии в Шри-Ланку и Мьянмар, в более позднее время из Шри-Ланки назад в Мьянмар и Таиланд и, наконец, из Таиланда в Кампучию, а оттуда в Лаос. Как я уже упоминал, учения Тхеравады были записаны на языке пали, одном из индийских языков, более разговорном, чем санскрит. В каждой из названных стран на языке пали читают одни и те же тексты, известные как Трипитака, или "Три корзины". Однако в каждой стране для их записи используется местный алфавит. В странах, где получили распространение учения школы Тхеравады, существует единая система монашеских обетов: традиции женского послушания и монашества не получили развития, несмотря на наличие в рукописях текстов обетов для монахинь. Характерная особенность буддизма заключается в его приспособляемости к культурам различных стран, где он получил распространение. Например, в то время как во всех странах монашеские обеты принимаются на всю жизнь, в Таиланде возник обычай принятия обета на определенный срок. В начале XIV в. король Лугай на протяжении трех месяцев вел монашескую жизнь в одном из мужских монастырей, что положило начало уникальному тайскому обычаю, согласно которому мужчины имеют право принимать монашеские обеты на короткое время. В Таиланде есть люди, регулярно принимающие обеты на год или на несколько месяцев. Ничего подобного мы не находим ни в одной буддийской стране. Более того, тайской культуре присуща вера в духов. В этом контексте буддизм использовался следующим образом: монахи начитывали различные священные тексты, чтобы защитить людей от злых духов. Монахи считались избранными и высоко уважаемыми людьми, получавшими пропитание в виде подаяния, население преданно поддерживало их регулярными приношениями. Поскольку любой человек мог стать монахом, хотя бы на короткое время, это никогда не рассматривалось как экономически тягостное явление. С другой стороны, в Шри-Ланке традиция Тхеравады зачастую имеет научный характер. Другие традиции Хинаяны, тексты которых были записаны не на пали, а на санскрите, достигли расцвета в собственно Индии и затем из Индии распространились на запад, затем на север и на восток вдоль Шелкового пути через Центральную Азию в Китай. Наиболее важными из этих традиций были Сарвастивада и Дхармагупта. Сарвастивада отделилась от Тхеравады в конце правления короля Ашоки в середине III в. до н.э., и достигла расцвета сначала в Кашмире и Гандхаре, то есть на территории современного Пакистанского Пенджаба и Центрального Афганистана. В конце III и начале II вв. до н.э. эти районы были захвачены потомками греков, которые пришли сюда более века назад вместе с Александром Великим во время его походов в Центральную Азию и северо-западную Индию. Затем Сарвастивада распространилась на заселенные ими земли в Бактрии и Согдиане. Бактрия располагалась в районе между горами Гиндукуш в Афганистане и рекой Оксус (Аму-Дарья) и включала Афганский Туркестан и часть территории современной Туркмении. Согдиана располагалась в основном в районе между реками Оксус и Яксартес (Сыр-Дарья) и охватывала некоторые районы современного Таджикистана, Узбекистана и, вероятно, Киргизии. В середине 1 в. до н.э. она простиралась от Кашмира на север до Хотана в южной части бассейна реки Тарим в Восточном Туркестане. В конце 1 в. н.э. большая часть этих территорий входила я состав Кушанской империи, населенной центрально-азиатскими народами гуннского происхождения, которые сосредоточились на северо-западе Индии. Кушанский король Канишка был покровителем Сарвастивады и во время его правления были построены великие пещерные буддийские монастыри и научные центры в Бамиане в Центральном Афганистане, а также в Аджина-Тепе, Кара-Тепе и некоторых других местах в южном Таджикистане около современного Термеза. Также во время его царствования Сарвастивада из Кашмира попала в Ладакх. Из Хотана она начала распространяться через города-оазисы пустынь Восточного Туркестана по направлению к городу Куча, расположенному в северной части бассейна реки Тарим, и в Кашгар на западе. Была завершена запись текстов Сарвастивады на санскрите и начата работа по их переводу на хотанский язык. Однако в Центральной Азии все буддийские тексты записывались на санскрите. Принадлежащая Хинаяне школа Дхармагупты откололась от Тхервады в начале Ив. до н.э. и достигла расцвета на территории современного Белуджистана на юго-востоке Пакистана и в Парфянском царстве, особенно на территории современного восточного Ирана и некоторых районов Туркмении. Анализ священных текстов показывает, что начиная со II в. н.э., в северном Китае главной школой Хинаяны была Сарвастивада, однако линия посвящения монахов и монахинь пришла в Китай именно из школы Дхармагупты, отсюда она распространилась на Корею, Японию и Вьетнам. Тексты Махаяны начали записывать на санскрите, а открыто они появились вскоре после окончания царствования короля Канишки во II в. н.э. Вначале это имело место в районе Андхра на юго-востоке Индии, а затем эти учения быстро распространились на северную Индию, Кашмир и, особенно, Хотан, Начиная с IV в. в северной части Индии были построены великие монастырские университеты, такие как Наланда и Викрамашила. Постепенно Махаяна попала также в Западный Туркестан, где буддизм, как уже упоминалось выше, исповедовался на территориях современной Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии вплоть до арабских нашествий в VIII в., в результате которых эти районы подверглись мусульманизации. Как уже говорилось ранее, ранняя индийская Махаяна попала также в Кампучию, а через нее в южный Вьетнам. В середине II в. н.э. через Центральную Азию и Шелковый путь начались контакты Китая с буддизмом. Монахи из купеческих семей Индии, Кашмира, Согдианы, Парфии, Хотана и Кучи, многие из которых были уроженцами Китая, начали переводить буддийские тексты с санскрита на китайский язык. Сначала это были тексты Хинаяны, однако вскоре были переведены также священные тексты Махаяны. В III-IV вв. Китай был раздроблен на различные княжества делившиеся на северные и южные. В южном Китае, где продолжала существовать более традиционная китайская культура, интерес к буддизму был чисто философским, сопровождавшимся множеством рассуждений, часто путающих учения Махаяны о пустоте или отсутствии воображаемых способов существования с местными идеями небытия. На севере, где правили по большей части династии, представлявшие народы некитайского происхождения, являвшиеся дальними предками тюрков, тибетцев, монголов и маньчжуров, основное внимание уделялось медитации, а также развитию и использованию экстрасенсорных и экстрафизических сил. Поскольку переведенные тексты не были отобраны в соответствии с какой-либо системой, а термины часто заимствовались из конфуцианской традиции и только частично были эквивалентны переводимым терминам, было много путаницы относительно сущности учения Будды. Вследствие этого многие монахи совершали путешествия по Шелковому пути в Центральную Азию или по морю с целью привезти большее количество текстов и надеясь с их помощью устранить неясности; с этой же целью они посещали великие монастырские университеты. Так было собрано и привезено в Китай много текстов. При попытках сведения всех этих текстов воедино они столкнулись с серьезными проблемами. В Индии учения Махаяны не были еще достаточно унифицированы, и каждый паломник, приносивший с собой связку текстов, имел различный подбор материала, вследствие чего не было единого мнения о том, какие тексты считать важнейшими учениями Будды. Таким образом возникли различные школы китайского буддизма, отличающиеся друг от друга чаще всего тем, какой текст и какой метод из тех, которым учил Будда, признавался главным. В Китай буддизм попал также морским путем с юга. Одним из величайших индийских учителей, прибывшим в Южный Китай, был Бодхидхарма. От мастера Бодхидхармы развился так называемый чань-буддизм. В этом учении особое внимание уделяется простому и естественному бытию в гармонии с природой и вселенной, что характерно также для китайской философии даосизма. Как я уже отмечала, буддизм всегда стремится приспособиться к той культуре, в которую он входит. В южном Китае также происходит адаптация буддийских техник. Там также учат, что существует "мгновенное" просветление. Это согласуется с конфуцианской идеей о том, что человек добродетелен по своей природе, и исходит из концепции, что каждый обладает природой будды, о чем я уже сказал в начале лекции. Чань-буддизм учит, что если человек сможет успокоить все свои "искусственные" (суетные) мысли, то он сможет преодолеть все свои заблуждения и препятствия в мгновение ока, и тогда немедленно наступит просветление. Это не соответствует индийской концепции о том, что развитие способностей идет в рамках постепенного длительного процесса создания положительного потенциала, развивая сострадание и так далее путем активной помощи другим людям. В это время в Китае существовало огромное количество воюющих княжеств: в стране царил хаос. В течение длительного времени Бодхидхарма сосредоточенно размышлял о том, какие методы могут быть приемлемыми для того времени и для тех условий; он разработал то, что в последствии стало известно как боевые искусства, и начал Обучать этим искусствам. В Индии не существовала традиция боевых искусств; что-либо подобное не развилось позднее ни в Тибете, ни в Монголии, куда буддизм проник из Индии. Будда учил о тонких энергиях тела и работе с ними. Поскольку разработанная для Китая система боевых искусств также имеет дело с тонкими энергиями тела, она согласуется с буддизмом. Однако в боевых искусствах энергии тела описываются с точки зрения принятого в Китае традиционного представления об этих энергиях, которое мы находим в даосизме. Буддизму свойственно стремление развить этическую самодисциплину и способность к концентрации с тем, чтобы личность была в состоянии сосредоточиться на реальности, мудро проникая в суть вещей и преодолевая заблуждения; а также разрешить собственные проблемы и максимально помочь окружающим. Боевые искусства являются техникой, дающей возможность развить те качества личности, которые могут быть использованы для достижения той же самой цели. В Китае и в Восточной Азии наиболее популярной буддийской школой является школа Чистой земли, которая особое внимание уделяет перерождению в Чистой земле Будды Амитабы. Там все способствует тому, чтобы быстрее стать Буддой и быть в состоянии скорее приносить пользу другим. Особое внимание в Индии всегда уделялось медитативным практикам концентрации с целью достижения этой же цели. В Китае учили, что все, что надо делать, это повторять имя Амитабы. Популярность этой школы в регионе распространения китайской культуры даже в наше время объясняется, вероятно, тем, что идея перерождения Будды Амитабы в находящейся на западе Чистой земле согласуется с даосской идеей о попадании после смерти в "западный рай" бессмертных. Таким образом, мы рассмотрели различные аспекты и модификации классического китайского буддизма. Вследствие суровых преследований буддизма в Китае в середине IX в. большинство имеющих философскую ориентацию школ заглохло. Основными сохранившимися формами буддизма были школа Чистой земли и чань-буддизм. В более позднее время буддизм смешался с конфуцианским культом почитания предков и даосскими практиками гадания с палочками. В течение многих столетий буддийские тексты переводились на китайский язык с санскрита и индоевропейских языков Центральной Азии. Китайский канон более обширен, нежели палийский, ибо он включает также тексты Махаяны. Правила дисциплины и обеты для монахов и монахинь несколько отличаются от принятых в традиции Тхеравады, так как китайцы, как уже упоминалось выше, следуют другой школе Хинаяны, а именно школе Дхармагупты. Несмотря на то, что 85% обетов монахов, и монахинь те же самые, что и в текстах Тхеравады, незначительные различия существуют. В Юго-Восточной Азии монахи носят оранжевые или желтые одежды без рубашек. В Китае предпочитают одежду принятых в этой стране черного, серого и коричневого цветов с длинными рукавами, что вызвано традиционными конфуцианскими представлениями о скромности. В отличие от Тхеравады и поздних тибетских традиций в Китае существует традиция полностью посвященных монахинь2. Эта преемственная пиния посвящения продолжается в настоящее время на Тайване, в Гонконге и Южной Корее. Собственно китайская буддийская традиция существует в наше время в очень ограниченных масштабах в Китайской Народной Республике. Она наиболее распространена на Тайване, а практикуется в Гонконге, в заморских общинах китайцев на Сингапуре, в Малайзии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах, а также в Соединенных Штатах и других странах, где осели китайцы. Ранние формы буддизма, обнаруженные как в Западном, так и в Восточном Туркестане, помимо Китая, распространились на другие культуры стран Центральной Азии, однако часто к ним примешивались некоторые элементы китайской культуры. Достойным внимания является распространение буддизма среди тюрков, первого известного народа, говорившего на тюркском языке и получившего это же название. Тюркский каганат возник во второй половине VI в. и скоро распался на две части. Северные тюрки сосредоточились в районе озера Байкал, где позднее образовалась Бурятия, а южные - в долине реки Енисей, на территории Тувы - в Восточно-Сибирском регионе СССР. Тюрки населяли также значительную часть Монголии. Западные тюрки имели своими центрами Урумчи и Ташкент. Буддизм впервые попал в Тюркский каганат из Согдианы в форме Хинаяны, которой, начиная с конца Кушанского периода (II-III вв. н.э.) , были также присущи некоторые черты Махаяны. Согдийские купцы, часто встречавшиеся на всем протяжении Шелкового пути, несли свою культуру и религий. Именно они были наиболее известными переводчиками санскритских текстов на китайский и другие языки Центральной Азии; они также переводили тексты с санскрита, а в более поздний период - с китайского на свой собственный, родственный персидскому, язык. Во время существования Северного и Западного каганатов среди тюрков преобладали махаянские монахи из района Турфан в северной части реки Тарим. Некоторые тексты были переведены на старый тюркский язык индийскими, согдийскими и китайскими монахами. Это было первой известной волной распространения буддизма, достигшей Монголии, Бурятии и Тувы. В Западном Туркестане сохранялась уже существовавшая там буддийская традиция до тех пор, пока в начале XIII в. тюрки не были разбиты арабами, и эти районы не были подвергнуты мусульманизации. Уйгуры, родственный тувинцам тюркский народ, завоевали северных тюрков и правили на территории Монголии, Тувы и в близлежащих районах с середины VIII в. до середины IX в. Уйгуры также испытывали влияние буддизма из Согдианы и Китая, однако основной их религией было пришедшее из Персии манихейство. Они приняли возникшую на основе сирийской согдийскую письменность; именно от уйгуров монголы получили свою собственную письменность. Тувинский язык также использовал письменность уйгуров, буддийское влияние попало к тувинцам от уйгуров в IX в. вместе с изображениями Будды Амитабы. В середине IX в. уйгуры потерпели поражение от киргизских тюрков. Многие из них покинули Монголию и мигрировали на юго-запад в район Турфан в северной части восточного Туркестана, где длительное время существовала первая хинаянская традиция Сарвастивады, а затем Махаяна, попавшая сюда из королевства Куча. Были переведены тексты на индоевропейский кучанский язык, который известен также как тохарский. Часть уйгуров мигрировала в восточные районы Китая (современная провинция Каньсу) , где также проживали тибетцы. Эта часть уйгуров стала называться "желтые" уйгуры, многие из них являются буддистами и по сей день. Именно в это время уйгуры начали широко переводить буддийские тексты. Сначала они переводили согдийские тексты, позднее основная часть переводов делалась с китайского. Однако значительная часть переводов осуществлялась с тибетских текстов, и в уйгурском буддизме со временем все более и более преобладало тибетское влияние. Первая волна распространения буддизма в Монголии, Бурятии и Туве, полученная от тюрков и уйгуров, не была очень продолжительной. Позднее, в конце Х в начале XIII вв. тангуты из Хара-Хото, расположенного на юго-западе Монголии, получили как китайскую, так и тибетскую формы буддизма. Они перевели большое количество текстов на тангутский язык, письменность которого подобна Китайской, но намного сложнее ее. Собственно китайский буддизм, особенно принятая на севере придающая большое значение медитативным практикам его форма во второй половине IV в. из Китая попал в Корею. В IV в. из Кореи он распространился на Японию. В Корее он процветал приблизительно до конца XIV в., когда завершилось владычество монголов. До начала XII в., во время правления династии И, имевшей конфуцианскую ориентацию, буддизм был значительно ослаблен. Возродился буддизм во время правления японцев. Преобладающей формой был чань-буддизм, который в Корее получил название "сон". Эта форма буддизма имеет мощную монастырскую традицию, в которой особое внимание уделяется интенсивной медитативной практике. Получив первоначально буддизм из Кореи, японцы, начиная с VII в. ездили в Китай с целью обучения и обеспечения непрерывности преемственных линий. Привезенные ими учения вначале имели философскую окраску, однако позднее стали преобладать характерные японские черты. Как уже упоминалось, буддизм всегда адаптируется к местным традициям образу мышления. В XIII в. Синран на основе школы Чистой земли развил учение школы Дзедо Синею. Китайцы в это время уже свели индийскую практику медитации для достижения перерождения в Чистой земле Амитабы просто к многократному повторению с искренней верой имени Амитабы. Японцы сделали шаг еще дальше и упростили всю процедуру до однократного произнесения с искренней верой имени Амитабы, в результате чего человек должен попасть в Чистую землю независимо от того, сколько плохих поступков он совершил в прошлом. Дальнейшее повторение имени Будды является выражением благодарности. Японцы не придавали совершенно никакого значения медитации и совершению положительных поступков, т.к. это может предполагать недостаток веры в спасительную силу Амитабы. Это согласуется с японской культурной тенденцией избегать индивидуальных усилий, а действовать, как частица большой команды под покровительством выдающейся личности. Несмотря на то, что к этому времени в Японии существовали лишь полученные из Кореи и Китая преемственные линии посвящения в монашеский сан мужчин и женщин, Синран учил, что соблюдение целибата и монашеский образ жизни не являются обязательными. Он основал традицию, допускающую женитьбу храмовых священников, соблюдающих ограниченный набор обетов. Во второй половине XIX в. правительство Мейджи издало декрет, согласно которому духовенство всех японских буддийских сект могло заключать браки. После этого в Японии постепенно отмерла традиция монашества. В XIII в. оформилась также школа Нитирен, ее основателем был учитель Нитирен. Здесь особое внимание уделялось произнесению на японском языке названия "Лотосовой сутры" - "Нам-м хОрэн-ге к ", сопровождавшемуся ударами в барабан. Подчеркивание универсальности Будды и его природы привело к тому, что историческая фигура Будды Шакьямуни отошла на 2-й план. Утверждение, что если каждый человек в Японии будет повторять эту формулу, то Япония превратится в рай на земле, придает буддизму националистический оттенок. Основное внимание уделяется земной сфере. В XX в. на основе этой секты развилось японское националистическое движение Сока Гаккай. Традиция Чань, попав в Японию, стала называться Дзэн; первоначально она достигла расцвета в ХII-ХШ вв. Она также приобрела ярко выраженный характер, присущий японской культуре. В дзэн-буддизме присутствуют определенные влияния воинской традиции Японии, которой присуща очень суровая дисциплина: верующий должен сидеть в безупречной позе, при нарушении которой его бьют палкой. В Японии существует также традиционная религия синто, уделяющая особое внимание утонченному восприятию красоты всего сущего во всех его проявлениях. Благодаря влиянию синто в дзэн-буддизме развились традиции аранжировки цветов, чайной церемонии и другие, являющиеся полностью японскими по своим культурным особенностям. Китайская форма буддизма распространилась также во Вьетнаме. На юге, начиная с конца II в. н.э., преобладали индийская и кхмерская формы буддизма, причем следует отметить смешение Тхеравады, Махаяны и индуизма. В XV в. они были вытеснены китайскими традициями. На севере была первоначально распространена традиция Тхеравады, попавшая сюда по морю, а также буддийские влияния из Центральной Азии, которые были занесены осевшими здесь купцами. Во II-III вв. имели место различные китайские культурные влияния. К концу VI в. относится появление чань-будцизма, известного во Вьетнаме как Тьен. Практики Чистой земли также стали частью Тьен, они были ориентированы на социальные и политические проблемы. Традиция Тьен в значительно меньшей степени, чем Чань, отстранялась от мирских дел. В Корее, Японии и Вьетнаме сохранился китайский буддийский канон, записанный китайскими иероглифами, однако в каждой из этих стран он произносился по-своему. Несмотря на то, что многие тексты были переведены на национальные языки, классический китайский язык оставался главным. В это время (IV в. н.э. и далее) в монастырских университетах Индии продолжалась устная разработка идей буддизма. Значительное развитие получили логика и философия как школы Сарвастивады, так и Махаяны. Учение Будды послужило основой для разработки различных философских систем, например, Вайбхашики и Саутрантики в Сарвастиваде, Читтаматры, известной также как Виджнянавада и Мадхьямики, включая Сватантрику и Прасангику, в Махаяне. Самое главное различие между ними, помимо многих менее значительных, состоит в том, что каждая следующая из этих систем дает более тонкий анализ действительности, так как именно незнание индивидуумом действительности является причиной периодического неконтролируемого повторения его проблем. Индийские учителя, придерживавшиеся различных точек зрения, оставили комментарии ко многим священным текстам Будды. Среди наиболее известных авторов были Нагарджуна, написавший комментарии к Мадхьямике, и Асанга, сочинивший комментарии к Читтаматре. Большие дискуссии были не только между ними, но и со сторонниками таких великих философских традиций как индуизм и джайнизм, также развившихся в Этот период. Читтаматра и Мадхьямика попали в Китай и существовали там как отдельные школы, однако в результате преследований в середине IX в. они заглохли. Тексты тантр, относящиеся к Махаяне, и особенно к Мадхьямике, передавались со времени Будды особенно тайно, их начали записывать, вероятно, во II-III вв. н.э. Тантра подчеркивает использование воображения с применением техник визуализации самого себя в образе Будды, в различных его обликах при полном осознании соответствующей реальности. Представляя самого себя уже обладающим телом и разумом Будды, мы создаем причины для более быстрого достижения этого объединяющего состояния, чем с помощью обычных махаянских методов, и таким образом можем скорее начать помогать другим людям. Множество лиц, рук и ног у некоторых из изображений Будды имеет несколько уровней, символически представляющих различные реализации на пути. Их визуализация помогает одновременно удержать в уме все эти прозрения, которые они символизируют с тем, чтобы более эффективно способствовать воссозданию всеведущего ума Будды. Тексты тантр, относящиеся к Махаяне, и особенно к Мадхьямике, передавались со времени Будды особенно тайно, их начали записывать, вероятно, во II-III вв. н.э. Тантра подчеркивает использование воображения с применением техник визуализации самого себя в образе Будды, в различных его обликах при полном осознании соответствующей реальности. Представляя самого себя уже обладающим телом и разумом Будды, мы создаем причины для более быстрого достижения этого объединяющего состояния, чем с помощью обычных махаянских методов, и таким образом можем скорее начать помогать другим людям. Множество лиц, рук и ног у некоторых из изображений Будды имеет несколько уровней, символически представляющих различные реализации на пути. Их визуализация помогает одновременно удержать в уме все эти прозрения, которые они символизируют с тем, чтобы более эффективно способствовать воссозданию всеведущего ума Будды. Теперь относительно тантры. Существуют четыре класса тантр, В Китай и Японию попали преимущественно первые три класса и частично четвертый. Однако именно он с течением времени получил наиболее полное развитие в Индии. В четвертом классе тантр, Ануттара-йоге, акцент на работе с различными тонкими энергиями тела для обретения доступа к наиболее тонкому уровню сознания, чтобы затем использовать его как инструмент постижения реальности с целью разрешения собственных проблем и обретения способности помогать другим наиболее эффективно. В течение этого времени Махаяна вместе с тантрой распространилась из Индии, особенно из ее восточных районов, в страны Юго-Восточной Азии. Как уже отмечалось ранее, эти учения попали в Шри-Ланку (Цейлон) и Мьянмар (Бирма) , однако они не стали господствующими, так как ранее там утвердилась Тхеравада. В Кампучии (Камбоджа) и в северной части Таиланда, начиная с IV в., Махаяна была распространена наряду с Тхеравадой и индуизмом. Со временем и там тоже она была вытеснена Тхеравадой. В Индонезии контакты с индийской культурой, и в том числе с буддизмом в виде Тхеравады и Махаяны, начались во II-III вв. н.э. на Суматре, Яве и Сулавеси (Целебес) . В конце V в. Махаяна, включая тантру, попала на Центральную Яву и очень там усилилась: буддизм был официально принят королевой. Ранее в этом районе преобладала Тхеравада. Как и в Кхмерском королевстве (Кампучия) здесь, наряду с буддизмом процветал индуизм в форме шиваизма, зачастую они смешивались, Для приобретения могущества некоторые верующие использовали также элементы местных ритуалов и спиритизма. В конце VII в. буддизм стал официальной религией на Суматре. В начале IX в. на Яве построили великий комплекс ступ Боробудур. К середине IX в. яванские короли завоевали Суматру, а также Малайский полуостров. На всей этой территории процветала Махаяна, включая все четыре класса тантр. В конце Х в. великий индийский мастер Атиша посетил Сурварнадвипу, которую можно идентифицировать как Суматру. Он ездил туда с целью возвращения махаянской преемственной линии учений о Бодхичитте, о том, как раскрыть сердце всех и стать буддой, чтобы помогать людям. Он вернул эти учения не только в Индию, но и в Тибет, где способствовал возрождению буддизма после периода преследований и упадка. Атиша сообщил, что в это время в Индонезии были распространены учения Калачакра Тантры. В конце XIII в. на Суматре, Яве и в Малайзии распространился ислам, завез нный сюда арабскими и индийскими купцами, основавшими на побережье торговые центры. К концу XV в. здесь господствовал ислам, а буддизм был утрачен. Только на Бали сохранилась смешанная форма индуистского шиваизма и махаянского тантрического буддизма. В этот период Махаяна и все четыре класса тантр попали также в Непал, где со времени короля Ашоки существовала ранняя Хинаяна. Махаяна не только вытеснила Хинаяну, но и сохранилась в индийской санскритской форме до наших дней среди неваров в Центральном Непале. Первыми тибетцами, оказавшими предпочтение буддизму, был народ чианг. Это произошло в конце IV в. н.э., когда они управляли частью северного Китая, что, однако, не оказало влияния на собственно Тибет. В первой половине VII в. состоялись первые контакты Тибета с буддизмом (его махаянской традицией) , пришедшим из Хотана, расположенного в южной части бассейна реки Тарим в Восточном Туркестане. Эти события имели место во время правления короля Сонгцен гампо, который властвовал в центральном и восточном Тибете, в Шан-Шуне в Западном Тибете, в северной части Мьянмара (Бирма) и, в течение некоторого времени, в Непале. Он женился на китайской и непальской принцессах; обе принцессы привезли с собой изображения Будды, а также астрологические и медицинские тексты тех традиций, которым они следовали. Король направил в Кашмир миссию с целью разработки более совершенной системы тибетской письменности; существовавшая в Тибете письменность была заимствована из Шан-Шуна, она также испытала некоторое влияние хотанской письменности. В это время начали переводить с санскрита буддийские тексты, однако работы не имели большого масштаба. Между этим периодом и известным диспутом монастыре Самье в конце VIII в., когда во время правления короля Тризонг-детцена было принято решение, что в Тибете будет принята не китайская, а индийская форма буддизма, состоялись контакты с другими буддийскими традициями. В это время владычество Тибета распространялось на государства-оазисы пустынь Восточного Туркестане, контакты с буддизмом в Западном Туркестане простирались до Самарканда. Именно король Тризонг-детцен завоевал и в течение короткого времени удерживал китайскую столицу Чанъянь. Хотя на этом диспуте китайский буддизм был отвергнут, некоторое влияние традиции чань можно обнаружить в тех школах тибетского буддизма, которые говорят о двух типах верующих: о тех, кто достигает всего сразу же, и о тех, кто проходит путь постепенно. Первая школа напоминает учение чань о стремительном просветлении (о нем было сказано выше) , однако в Тибете оно интерпретируется совершенно по-другому. В Киргизии были обнаружены руины буддийских монастырей, датируемые VI-Х вв. Неясно, принадлежат ли они традиции западных тюрков или уйгуров, а также сколь велико было здесь влияние Тибета. В долинах рек Или и Чу, расположенных восточнее или западнее озера Иссык-Куль, найдено множество наскальных буддийских надписей на тибетском языке, датируемых именно этим и более поздним периодами, что свидетельствует о присутствии тибетской буддийской культуры в этих районах. Добуддийская тибетская традиция бон достигла расцвета в королевстве Шан-Шун, самый западный район ее распространения - Тазик. Трудно сказать, расположен ли Тазик на территории современного Таджикистана. Эту традицию исследует отождествлять с распространенным в Центральной Азии шаманизмом, хотя они и имеют общие черты. В тибетском буддизме присутствует некоторое влияние шаманизма, преимущественно в таких ритуалах, как привязывание к деревьям молитвенных флагов, выполнение всевозможных обрядов с целый умилостивить духов, хранителей горных перевалов и т.д. Традиция бон существует и в наши дни, но она столь тесно слилась с буддизмом, что практически является еще одной его линией. В этой традиции используется другая терминология и другие названия священных образов, однако основные техники имеют очень много общего с тибетскими буддийскими техниками, развившимися на основе первой волны распространения буддизма в Тибете. Первая волна буддизма пришла в Тибет преимущественно благодаря усилиям Падмасамбхавы, или Гуру Ринпоче, как он стал известен среди тибетцев. Он положил начало традиции Ньингма, или "старых (переводов) ". В середине IX в. имели место сильные гонения на буддизм, и традиция Ньингма продолжала существовать в основном тайно, многие тексты были спрятаны в пещерах и обнаружены вновь через несколько столетий. После наступления более благоприятного времени, начиная приблизительно с Х в., из Индии пригласили новых учителей и в Тибет пришла другая волна буддизма. Она известна как период "новых (переводов) ", когда получили развитие три главные традиции: Сакья, Кагью и Кадам. В XIV в. традиция Кадам была преобразована в Новую Кадам, или Гелуг. В традиции Кагью существуют две главные линии. Дагпо Кагью развилась из линии Тилопы, Наропы, Марпы, Миларепы и Гампопы. Она подразделяется на 12 разных линий, одна из них Карма Кагью, главой которой традиционно является Кармапа. Наиболее важными из этих 12 линий являются Другпа, Дрикунг и Таг-лунг Кагью. Вторая главная линия Кагью, Шангпа, ведет свое происхождение от индийского мастера Кхьюнгпо Налжор. Традиция Сакья идет от великого индийского мастера Вирупы, а Кадам - от индийского мастера Атиши, который, прежде чем отправиться в Тибет, совершил путешествие в Индонезию с целью возрождения некоторых линий Махаяны, попавших туда, как уже упоминалось, из Индии. Традиция Новая Кадам, или Гелуг, была основана Тзонкапой. Одной из величайших фигур в тибетском буддизме является Далай-лама; Далай-лама 1 был учеником Тзонкхапы, когда 3-й его "перерожденец" прибыл в Монголию, ему дали имя "Далай", по-монгольски "океан", а предыдущие его перерождения после смерти были признаны как Далай-ламы 1 и II. Далай-лама IV родился в Монголии; Далай-лама V объединил весь Тибет и стал не только духовным, но и политическим лидером. Неверно полагать, что Далай-лама является главой традиции Гелуг; ее возглавляет Гандэн Три Ринпоче. Далай-лама стоит выше любого главы любой из традиций, являясь покровителем всего тибетского буддизма. Панчен-лама 1 был одним из учителей Далай-ламы V. В отличие от Далай-ламы Панчен-лама занимается исключительно духовными делами. Когда возраст Далай-ламы и Панчен-ламы был подходящим, тогда один из них мог стать учителем другого. Анализируя четыре традиции тибетского буддизма, мы приходим к выводу, что общее у них составляет приблизительно 85%, Все они следуют учениям Индии как своей первоначальной основе. Все они изучают философские догматы четырех буддийских традиций Индии, рассматривая это как путь к достижению все более тонкого понимания реальности. В этом отношении они все признавали, что наиболее совершенной является Мадхьямика. Все они соблюдают традицию проведения диспутов, широко распространенную в индийских монастырях, а также традицию великих созерцателей Индии, махасиддх. Все они следуют объединенному пути сутры и тантр, которые являются общей махаянской основой этих учений. Общей для них является и традиция монашеских обетов; это традиция хинаянской школы Мула-Сарвастивады, развившаяся из Сарвастивады и незначительно отличающаяся от распространенной в Юго-Восточной Азии и Китае традиции Тхеравады. В Тибете не получила распространения традиция полностью посвященных монахинь, хотя в тибетских монастырях существовал институт послушниц. Приблизительно 85% монашеских обетов не отличаются от обетов других традиций. Однако незначительные различия существуют. Одежда монахов темно-бордового цвета, а рубашки не имеют рукавов. Буддийские тексты переводились на тибетский язык главным образом с санскрита, лишь некоторые были переведены с китайского, в случае, когда был утерян санскритский подлинник. Тексты хранятся в двух главных собраниях: Кэнгьюр, объединяющий подлинные слова Будды, и Тэнгьюр, в котором собраны индийские комментарии. Это самый крупный корпус буддийской канонической литературы, содержащий наиболее полное изложение индийской буддийской традиции, что особенно ценно, так как начиная с ХII-ХIII вв. буддизм в Индии потерял влияние в результате тюркских вторжений из Афганистана. Большинство утраченных санскритских подлинников сохранилось исключительно в тибетских переводах. Таким образом, Тибет стал наследником индийского буддизма в то время, когда в самой Индии он оформился в виде традиции, признающей постепенный путь. Великий вклад тибетцев в буддизм состоит в дальнейшем развитии его организации и методов обучения. Тибетцы разработали способы раскрытия всех основных текстов и прекрасные системы толкования и обучения. Из Тибета буддизм проник в другие районы Гималаев, такие как Ладакх, Лахул-Спити, Киннуар, область Шерпа в Непале, Сикким, Бутан и Аруначал. Однако наиболее масштабным было распространение буддизма в Монголии в конце VI в. во время тюркского, а затем и уйгурского правления в Монголию пришла из Центральной Азии первая волна учений махаянского буддизма. Позднее, в XVII в. Монголия была искусственно разделена маньчжурами на Внешнюю и Внутреннюю Это произошло до завоевания ими Китая, Буддизм распространился на территории всей Монголии. Вторая, более крупная волна пришла их Тибета в ХН1 в. во времена хана Хубилая, когда в Монголию прибыл великий мастер традиции Сакья Пхагпа-лама. Для помощи в переводе буддийских текстов он разработал новую монгольскую письменность. В это время в Монголию пришли также учителя традиции Карма Кагью. Тибетский буддизм был принят также некоторыми другими наследниками Чингиз-хана, а именно: ханами Чигитай, правившими в Восточном и Западном Туркестане, и ханами Или, правившими в Персии. фактически в течение нескольких десятилетий тибетский буддизм был государственной религией Персии, хотя он и не получил поддержки коренного мусульманского населения. В середине XIV в., с падением в Китае монгольской династии Юань, влияние буддизма в Монголии, поддерживавшегося в основном знатью, ослабело. Третья волна буддизма пришла в Монголию в конце XVI в. благодаря усилиям Далай-ламы III, когда главной формой распространившегося среди монголов тибетского буддизма стала традиция Гелуг. Однако незначительные следы традиций Сакья и Кагью сохранились несмотря на то, что они не были признаны официально. В некоторых небольших монастырях продолжали практиковать традицию Ньингма, однако ее истоки не ясны: происходит она от тибетских традиций собственно школы Ньингма или же от практик Ньингма, восходящих к "Чистым видениям" Далай-ламы V. Первоначальный стиль возведения тибетских монастырей возник в конце XVI в. при постройке монастыря Эрдэни-Цзу на месте древней столицы Каракорум. С тибетского языка на монгольский были переведены полные собрания текстов Кэнгьюр и Тэнгьюр. Выдающиеся монгольские ученые написали комментарии к буддийским текстам иногда на монгольском, но большей частью на тибетском языке. В Монголию из Тибета перешла традиция монастырской жизни монахов, но традиция послушниц не попала ни в Монголию, ни в районы с бурятским, тувинским и калмыцким населением. Линия перерождений тибетского мастера Таранатхи стала известна как линия Богдо-гегенов, или Джебцун-дамба Хутухт, которые стали традиционными главами буддизма в Монголии. Их резиденция находилась в Урге (ныне Улан-Батор) . С течением времени тибетский буддизм несколько приспособился к условиям Монголии. Например, 1-й Богдо-геген Дзанабазар (вторая половина XVII - начало XVIII вв.) создал специальную одежду монгольских монахов для ношения главным образом в свободное от выполнения церемоний время. На основе уйгурской и монгольской письменности он разработал также алфавит союмбу, использовавшийся для транслитерации тибетских и санскритских слов. В XVII в. тибетский буддизм, и в первую очередь традиция Гелуг, попал к маньчжурам, а во время их правления - в Маньчжурию и в северные области Китая. Был основан тибетский монастырь в Пекине, а в Гехоле, летней столице маньчжуров, расположенном на северо-востоке от Пекина были построены точные копии лхасской Поталы, а также монастырей Самье и Ташилунпо. Кэнгьюр был полностью переведен с тибетского языка на маньчжурский, в основе которого лежит адаптированный монголами уйгурский шрифт. В начале XVII в. тибетский буддизм из Монголии проник на север к бурятскому населению Забайкалья. Вторая линия пришла непосредственно из Тибета из монастыря Лабранг Ташикьил в провинции Ам-до. С целью ослабления позиции Богдо-гегенов и влияния монголов и маньчжуров в этой части России, царь дал настоятелям Гусиноозерского дацана как главам бурятского буддизма титул Бандидо Хамбо-Лама. Таким образом бурятская традиция стала официально независимой от монгольской церкви. В 20-х годах нашего века часть бурят переселилась из Забайкалья во Внутреннюю Монголию и там продолжила свои собственные буддийские традиции в дополнение к тем, что уже существовали в этой области. В XVIII в. тибетский буддизм из Монголии попал также к тюркскому населению Тувы, хотя, как было отмечено ранее, первая волна буддизма пришла в Туву в IX в. от уйгуров. Как и в Забайкалье, это была главным образом традиция Гелуг; традиция Ньингма также получила значительное распространение. Настоятели Чаданского хурэ как главы тувинского буддизма получили титул Хамбу-лама. Поскольку Тува, подобно Монголии, до 1912 г. находилась под маньчжурским правлением, тувинские Хамбу-ламы подчинялись непосредственно Богдо-гегенам в Урге: тувинский буддизм имел значительно более тесные связи с Монголией, чем бурятский. В Туве буддизм мирно сосуществовал с местной традицией шаманизма: в одних случаях люди обращались к шаманам, а в других - к буддийским священникам. К западным монголам, ойратам, тибетский буддизм впервые попал в XIII в., однако не получил здесь широкого распространения. Более глубокие корни он пустил в конце XVI - начале XVII вв., когда получила распространение традиция Гелуг, пришедшая непосредственно из Тибета и отчасти через Монголию. Это было в Джунгарии в Восточном Туркестане (ныне северная провинция Синь-Цзянь, в КНР) , в Восточном Казахстане, а также, возможно, на Алтае. Шаманизм в этих районах был запрещен Советом ханов. Когда предки калмыков отделились от ойратов Джунгарии в начале XVII в. переместились в район между Волгой и Доном к северу от Каспийского моря, они принесли с собой собственную традицию тибетского буддизма. Большую помощь им оказал ойрат Зая Пандита, Намкхаи Гиятсо, который на основе монгольской письменности разработал калмыцко-ойратскую письменность. Глава калмыцкого буддизма назначался царем и именовался Лама калмыцкого народа. Его резиденция располагалась в Астрахани, и, подобно бурятскому Бандидо Хамбо-ламе, он был совершенно независим от монголов. Духовное руководство калмыки получили непосредственно из Тибета. Несмотря на то, что наибольшее распространение у калмыков получила традиция Гелуг, вследствие присущего им синкретизма они приняли также некоторые обряды традиций Сакья и Кагью. В XVIII в. маньчжуры истребили ойратов в Джунгарии; во второй половине того же столетия многие калмыки вернулись в Джунгарию и присоединились к ойратам, еще остававшимся в этой области, принеся с собой сильную буддийскую традицию. Эта традиция продолжает существовать среди ойратов в северных районах Восточного Туркестана. Одна ветвь тувинцев, также подвергшихся гонениям маньчжуров, дошла до центральной части Восточного Туркестана, и, очевидно, основала собственную традицию тибетского буддизма в районах Урумчи и Турфан. Кроме того, одним из наставников Далай-ламы XIII был бурятский лама Агван Доржиев. Под его влиянием в Петрограде в 1915 г. был построен тибетский буддийский монастырь традиции Гелуг. Итак, мы видим, что буддийские учения широко распространились во всех наиболее важных регионах Азии. В каждом из этих регионов буддизм адаптировался к местным обычаям и традициям и, в свою очередь, каждая культура внесла в его развитие свои характерные черты. Все это находится в соответствии с основным буддийским методом обучения с помощью "искусных средств". Существует множество техник и методов, используя которые можно помочь людям преодолеть собственные проблемы и ограничения, реализовать возможности с тем, чтобы наиболее эффективно помогать другим. Таким образом, хотя существует много различных форм буддизма, все они, основываясь на учениях Будды, согласуются друг с другом. |
| Заповедей маловато будет. |
|
БУДДИЗМ Буддизм - религиозно-философское учение, которое возникло в Индии в 6-5 веках до н.э. Входит в Сань цзяо - одну из трех главных религий Китая. Основатель буддизма - индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т.е. пробужденного или просветленного. Буддизм возник на северо-востоке Индии в областях добрахманистской культуры. Буддизм быстро распространился по всей Индии и достиг максимального расцвета в конце I тысячелетия до н. э - начале I тысячелетия н.э. Буддизм оказал большое влияние на возрождавшийся из брахманизма индуизм, однако был вытеснен индуизмом и к XII веку н.э. практически исчез из Индии. Основной причиной этого стало противопоставление идей буддизма освященному брахманизмом кастовому строю. Одновременно, начиная с III века до н.э., он охватил Юго-восточную и Центральную Азию и частично Среднюю Азию и Сибирь. Уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 18 сект, разногласия между которыми вызвали созыв соборов в Раджагрихе в 447 г до н.э., в Вайшави в 367 г до н.э., в Паталирутре в 3 веке до н.э. и привели в начале нашей эры к разделению буддизма на две ветви: Хинаяну и Махаяну. Хинаяна утвердилась в основном в юго-восточных странах и получила название южного буддизма, а Махаяна - в северных странах, получив название северного буддизма. Распространение буддизма способствовало созданию синкретических культурных комплексов, совокупность которых образует так называемую буддийскую культуру. Характерной особенностью буддизма является его этико-практическая направленность. С самого начала буддизм выступил не только против значения внешних форм религиозной жизни и прежде всего ритуализма, но и против абстрактно-догматических исканий, свойственных, в частности, брахманийско-ведийской традиции. Вкачестве центральной проблемы в буддизме была выдвинута проблема бытия личности. Стержнем содержания буддизма является проповедь Будды о четырех благородных истинах. Разъяснению и развитию этих положений и, в частности, заключенному в них представлению об автономии личности, посвящены все построения буддизма. Страдание и освобождение представлены в буддизме как различные состояния единого бытия: страдание - состояние бытия проявленного, освобождение - непроявленного. То и другое, будучи нераздельным, выступает, однако, в раннем буддизме как психологическая реальность, в развитых формах буддизма - как космическая реальность. Освобождение буддизм представляет себе прежде всего как уничтожение желаний, точнее - угашение их страстности. Буддийский принцип так называемого среднего (срединного) пути рекомендует избегать крайностей - как влечения к чувственному удовольствию, так и совершенного подавления этого влечения. Внравственно-эмоциональной сфере господствующей в буддизме оказывается концепция терпимости, относительности, с позиций которой нравственные предписания не являются обязательными и могут быть нарушены. В буддизме отсутствует понятие ответственности и вины как чего-то абсолютного, отраженьем этого является отсутствие в буддизме четкой грани между идеалами религиозной и светской морали и, в частности, смягчение или отрицание аскетизма в его обычной форме. Нравственный идеал буддизма предстает как абсолютное непричинение вреда окружающим (ахинса) , проистекающее из общей мягкости, доброты, чувства совершенной удовлетворенности. Винтеллектуальной сфере буддизма устраняется различие между чувственной и рассудочной формами познания и устанавливается практика так называемого созерцательного размышления (медитации) , результатом которого является переживание целостности бытия (неразличения внутреннего и внешнего) , полная самоуглубленность. Практика созерцательного размышления служит, таким образом, не столько средством познания мира, сколько одним из основных средств преобразования психики и психофизиологии личности. В качестве конкретного метода созерцательного размышления особенно популярны дхьяны, получившие название буддийской йоги. Состояние совершенной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолютной независимости внутреннего бытия - положительный эквивалент угашения желаний - есть освобождение, или нирвана. В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, неотделимой от окружающего мира, и признание бытия своеобразного психологического процесса, в который оказывается вовлеченным и мир. Результатом этого является отсутствие в буддизме противоположности субъекта и объекта, духа и материи, смешение индивидуального и космического, психологического и онтологического и одновременно подчеркивание особых потенциальных сил, таящихся в целостности этого духовно-материального бытия. Творческим началом, конечной причиной бытия оказывается психическая активность человека, определяющая как образование мироздания, так и его распад: это волевое решение "Я", понимаемого как некая духовно-телесная целостность. Из неабсолютного значения для буддизма всего существующего безотносительно к субъекту, из отсутствия созидательных стремлений у личности в буддизме следует вывод, с одной стороны, о том, что бог как высшее существо имманентен человеку и миру, с другой - что в буддизме нет надобности в боге как творце и спасителе, то есть вообще как безусловно верховном существе, трансцендентном этой общности. Из этого вытекает также отсутствие в буддизме дуализма божественного и небожественного, бога и мира. Начав с отрицания внешней религиозности, буддизм в ходе своего развития пришел к ее признанию. При этом произошло отождествление высшей реальности буддизма - нирваны - с Буддой, который из олицетворения нравственного идеала превратился в его личное воплощение, став, таким образом, высшим объектом религиозных эмоций. Одновременно с космическим аспектом нирваны возникла космическая концепция Будды, сформулированная в доктрине трикаи. Буддийский пантеон начал разрастаться за счет введения в него всякого рода мифологических существ, так или иначе ассимилирующихся с буддизмом. Культ, охватывающий все стороны жизни буддиста, начиная от семейно-бытовой и заканчивая праздниками, особенно усложнился в некоторых течениях Махаяны, в частности в ламаизме. Очень рано в буддизме появилась сангха - монашеская община, из которой с течением времени выросла своеобразная религиозная организация. Наиболее влиятельная буддийская организация - созданное в 1950 году всемирное братство буддистов. Литература буддизма обширна и включает сочинения на пали, санскрите, гибридном санскрите, сингалезском, бирманском, кхмерском, китайском, японском и тибетском языках. Будда Гаутама, известный также как Шакьямуни, жил 2500 лет назад в пограничной области между Индией и Непалом. Он не был Творцом или Богом. Он был просто человеком, сумевшим понять жизнь, являющуюся источником всевозможных внешних и внутренних проблем. Он смог преодолеть все собственные проблемы и ограничения и реализовать все свои возможности, чтобы помогать другим наиболее эффективно. Так он стал известен как Будда, т.е. тот, кто является полностью просветленным. Он учил, что каждый может достичь этого, ибо каждый обладает способностями, возможностями или факторами, позволяющими произойти подобной трансформации, т.е. каждый обладает "природой будды". Каждый обладает умом, а значит способностью понимать и знать. Каждый обладает сердцем, а значит способностью проявлять чувства по отношению к другим. Каждый обладает способностью общения и определенным уровнем энергии - способностью действовать. Эти способности являются основным рабочим материалом, имеющимся у каждого, включая животных и насекомых, и хотя у отдельных индивидуумов они могут быть ограничены, тем не менее каждый может развить свои способности и преодолеть ограничения с целью наиболее полной реализации собственных возможностей. Будда понимал, что все люди неодинаковы и обладают разными характерами и склонностями, и поэтому он никогда не выдвигал какую-либо одну догматическую систему, а обучал различным системам и методам в зависимости от индивидуальности обучаемого. Он всегда поощрял людей проверять их на собственном опыте и ничего не принимать на веру. Буддизм развивался в Индии в общем контексте индийской философии и религии, включавшей также индуизм ч. джайнизм. Хотя буддизм имеет некоторые общие черты с этими религиями, тем не менее существуют принципиальные различия. Прежде всего в буддизме в отличие от индуизма не содержится идея кастовости, но как было отмечено выше, содержится идея равенства всех людей с точки зрения обладания ими одинаковыми возможностями. Как и индуизм, буддизм говорит о карме, но сама идея кармы здесь совершенно иная. Это не идея судьбы или рока, подобно исламской идее кизмата, или божьей воли. Этого нет ни в классическом индуизме, ни в буддизме, хотя в. современном популярном индуизме она иногда приобретает такое значение вследствие влияния ислама. В классическом индуизме идея кармы ближе к идее долга. Люди рождаются в различных жизненных и социальных условиях вследствие принадлежности к разным кастам (к касте воинов, правителей, слуг) или рождаются женщинами. Их карма, или долг, - в специфических жизненных ситуациях следовать классическим образцам поведения, описанным в "Махабхарате" и "Рамаяне", великих эпических произведениях индуистской Индии. Если кто-либо действует, например, как совершенная жена или совершенный слуга, тогда в будущих жизнях его положение, вероятно, будет лучше. Буддийская идея кармы совершенно отлична от индуистской. В буддизме карма означает "импульсы", которые побуждают нас что-либо делать или думать. Эти импульсы возникают как результат предшествующих привычных действий или поведенческих моделей. Но поскольку нет необходимости следовать каждому импульсу, наше поведение не является строго детерминированным. Такова буддийская концепция кармы. И в индуизме, и в буддизме содержится идея перерождения, но понимается она по-разному. В индуизме мы говорим об атмане, или "я", перманентном, неизменном, отдельном от тела и ума, всегда одном и том же и переходящем из жизни в жизнь; все эти "я", или атманы, едины со вселенной, или Брахмой. Следовательно, многообразие, которое мы видим вокруг нас - иллюзия, ибо в реальности все мы едины. Буддизм трактует эту проблему иначе: не существует неизменное "я", или атман, переходящее из жизни в жизнь: "я" существует, но не как плод фантазии, не как нечто непрерывное и постоянное, переходящее из одной жизни в другую. В буддизме "я" можно уподобить изображению на киноленте, где существует непрерывность кадров, а не непрерывность переходящих из кадра в кадр объектов. Здесь неприемлема аналогия "я" со статуей, перемещающейся, как на конвейере, из одной жизни в другую. Как было сказано, все существа равны в том смысле, что все они имеют одинаковые возможности стать буддой, однако буддизм не провозглашает, что все тождественны или едины в Абсолюте. Буддизм говорит, что каждый индивидуален. Даже став буддой, он сохраняет свою индивидуальность. Буддизм не утверждает, что все является иллюзией: все подобно иллюзии. Это серьезное отличие. Предметы подобны иллюзии в том смысле, что они кажутся твердыми, постоянными и конкретными, тогда как в действительности они не таковы. Предметы не являются иллюзией, поскольку иллюзорная пища не наполнит наш желудок, а реальная пища наполнит. Другое значительное отличие состоит в том, что в индуизме и буддизме особое значение придается разным видам деятельности, ведущим к освобождению от проблем и трудностей. В индуизме обычно подчеркиваются внешние физические аспекты и техники, например, различные асаны в хатха-йоге, в классическом индуизме - очищение путем омовения в Ганге, а также режим питания. В буддизме большое значение придается не внешним, а внутренним техникам, воздействующим на ум и сердце. Это видно на примере таких выражений, как "развитие доброго сердца", "развитие мудрости для видения реальности" и т.д. Это различие проявляется также о подходе к произнесению мантр - особых санскритских слогов и фраз. В индуистском подходе акцент делается на воспроизведение звука. Со времени Вед считалось, что звук вечен и обладает своей собственной огромной силой. В противоположность этому в буддийском подходе к медитации, включающей мантры, особое внимание уделяется развитию способности к концентрации с помощью мантр, а не звуку как таковому. В течение своей жизни Будда обучал разным методам, но как и в случае с учениями Иисуса Христа, при жизни Будды ничего не было записано. Через несколько месяцев после ухода Будды собрались 500 его учеников (позднее это собрание стало известно как Первый буддийский совет) , чтобы устно утвердить то, чему учил Будда. Ученики по памяти воспроизводили различные отрывки услышанных ими священных текстов. Несмотря на то, что это собрание текстов, известное под названием "Трипитака", или "Три корзины", было воспроизведено по памяти и официально утверждено уже в этот ранний период, записано оно было значительно позже. Например, палийский конон был записан в начале 1 в. н.э. в Шри Ланке. Причиной этого было то, что письменный язык использовался в то время только в коммерческих или административных целях и никогда не использовался для научных целей или целей обучения. Эти тексты сохранялись в памяти, причем определенные группы людей в монастырях были ответственны за сохранение различных текстов. Не все учения Будды передавались устно так открыто. Считалось, что некоторые из них предназначены для будущего, поэтому они изустно передавались из поколения в поколение учителями и учениками более тайно. Иногда учения Будды, обнародованные в значительно более позднее время, подвергаются критике. Критика поздних буддийских учений как неаутентичных на основании того аргумента, что только ранние буддийские источники содержат подлинные слова Будды, представляется несостоятельной. Ибо если "ранние" буддисты заявляют, что позднейшие традиции неаутентичны, потому что основаны на устной традиции, то этот же аргумент может быть использован и в отношении ранних учений, т.к. они тоже не были записаны самим Буддой, а передавались устной традицией. Тот факт, что различные тексты Будды были записаны на разных языках и в разных стилях, также не ставит под сомнение их подлинность, т.к. сам Будда говорил, что его учения следует сохранять на том языке, который принят в данном обществе, с учетом свойственного этому обществу стиля. Особое значение всегда должно придаваться смыслу, а не словам, текст не должен нуждаться в дополнительном толковании. Эта первая группа учений, которая передавалась устно и открыто, со временем была записана и образовала основу направления, известного как Хинаяна. Различные расколы и менее значительные расхождения в трактовке основных положений привели к разделению Хинаяны на 18 школ, в которых на различных индийских диалектах передавались незначительно отличающиеся друг от друга тексты. Школа Тхеравады, например, попав в Шри-Ланку и в Юго-Восточную Азию, сохраняла свои учения на языке пали, а школа Сарвастивады, получившая распространение в Центральной Азии, использовала санскрит. Хинаяна, общий термин для названия этих 18 традиций, означает "Скромная колесница". Обычно, Хинаяна переводится как "Малая колесница", однако нет нужды придавать этому слову уничижительный оттенок. Колесница означает "движение ума", т.е. путь мышления, чувства, действия и т.д., который ведет к определенной цели. Она скромная в том смысле, что предполагает методы достижения скромной, а не высшей цели. Она существует для тех, кто просто работает над преодолением своих собственных проблем, т.к. для них было бы непосильно работать с целью преодоления всеобщих проблем. Вместо того, чтобы стремиться стать буддой, они стремятся стать освобожденными людьми (на санскрите "архат") . Будда учил, что в текущую мировую эпоху появится 1000 будд. В системе Хинаяны утверждается, что для того, чтобы стать буддой, необходимо следовать пути бодхисаттвы, т.е. полностью посвятить себя оказанию помощи другим к самоусовершенствованию, чтобы делать это наилучшим образом; однако все 1000 мест уже заняты. Следовательно, работать для того, чтобы стать буддой в текущей эпохе нет смысла, поэтому следует стремиться к тому, что является практически достижимым, т.е. стремиться стать освобожденным человеком. Далее, Будда учил, что когда человек достигает нирваны, или освобождается от собственных проблем, тогда поток сознания прерывается или гаснет подобно свече. Это помогает людям, не преследующим высшие цели, не быть подавленными страхом, а также дает им возможность ощутить, что действительно наступит конец их страданиям, и таким образом вступить на путь Хинаяны. В записанных позднее учениях Махаяны ("Просторная колесница*) те 1000 будд, о появлении которых говорил Будда, рассматриваются как основатели мировых буддийских религий. Кроме них появится также множество других будд, которые не будут основателями мировых буддийских религий; стать одним из этих будд возможно. Более подготовленных учеников Будда наставлял, как стать буддой: это означает не только преодоление собственных проблем, но и собственных ограничений, а также максимальную реализацию возможностей по оказанию помощи ближним. Будда учил, что прекращение потока сознания после достижения паринирваны означает прекращение существования потока сознания в его прежнем качестве. Таким образом, поток сознания вечен, как и жизнь, наполненная помощью ближним. Итак, первой записанной системой учений была Хинаяна. В ней содержатся основополагающие учения, признаваемые также и Махаяной, а именно: все учения. о карме (причинно-следственная связь) ; все правила этической самодисциплины, включая правила монастырской дисциплины для монахов и монахинь; анализ деятельности умственной и эмоциональной сфер; указания как развить способности к концентрации, а также как достичь мудрости, чтобы преодолеть заблуждения и увидеть реальность. Учения Хинаяны включают также способы развития чувства любви и сострадания. Любовь определяется как желание счастья другим людям, а сострадание - как пожелание другим людям освободиться от их проблем. Махаяна развивает эти положения, добавляя к ним принятие на себя ответственности за действенную помощь другим людям, не ограничиваясь только пожеланием им добра. Поскольку вследствие свойственных человеку ограничений он не в состоянии оказывать другим максимальную помощь, особое внимание Махаяна уделяет раскрытию сердца индивидуума с помощью бодхичитты. Бодхичитта означает установку стать буддой, другими словами сердце, стремящееся к преодолению всех присущих личности ограничений и к реализации всех возможностей с целью оказания наибольшей помощи каждому.. Как уже упоминалось, учения Хинаяны передавались 18 различными школами, которые развились исторически в результате возникавших в ходе церковных Соборов разногласий. В полном объеме до нашего времени сохранилась традиция Тхеравады, или "Учение старейшин". В наши дни она распространена в Юго-Восточной Азии, особенно в Шри-Ланке (Цейлон) , Мьянмаре (Бирма) , Таиланде, Кампучии (Камбоджа) и Лаосе. В Шри-Ланку и Мьянмар учения этой школы попали в середине III в. до н.э. с помощью индийского короля Ашоки. В более поздний период в обеих этих странах ощущались влияния учений Махаяны, включая тантру, попавшие сюда из восточной Индии, однако эти влияния были незначительными. В середине XI в., когда был построен буддийский город Паган, в Мьянмаре произошло возрождение традиции Тхеравады. До начала XIII в. Таиланд состоял из нескольких небольших королевств, испытывавших определенные буддийские влияния со стороны соседних с ним Мьянмара и Кампучии. После объединения страны в середине XIII в. король пригласил из Шри Ланки представителей традиции Тхеравады. В XVIII в. Шри-Ланка обратилась к Таиланду с целью возрождения преемственных линий посвящения в монашеский сан, ослабевших за период колониального правления европейцев. Первым индуистским государством Юго-Восточной Азии в 1 в. н.э. было Кхмерское королевство (Кампучия) . Его власть распространялась на Кампучию, Южный Вьетнам, Таиланд, Малайский полуостров. К концу IV в. в этом регионе широко распространились Махаяна, индуизм, а также, в некоторой степени, Тхеравада. Затем последовал период упадка, после чего буддизм достиг расцвета в IX в. В конце XII в. и в начале XIII в. один из кхмерских королей, оказывавших покровительство Махаяне, построил огромный комплекс храмов в Ангкоре. В середине XIII в. Таиланд захватил Кампучию и с тех пор там преобладает традиция Тхеравады. В середине XIV в. член правившей в Лаосе королевской фамилии находился в изгнании в Кампучии. Вернувшись на родину и став королем, он распространил там традицию Тхеравады. Ранее, в 1 и II вв. до н.э., Тхеравада попала в северный Вьетнам морским путем непосредственно из Индии, однако вскоре ее вытеснила китайская форма Махаяны. Во II - III вв. Тхеравада из Индии попала в Индонезию, причем как и в Кампучии здесь примешивались некоторые элементы Махаяны и индуизма. Однако вскоре Махаяна опять стала преобладающей формой буддизма в этой стране. Несколько позже я более подробно остановлюсь на истории буддизма во Вьетнаме и Индонезии. Такова общая схема распространения Тхеравады в Юго-Восточной Азии. В основном она распространялась из Индии в Шри-Ланку и Мьянмар, в более позднее время из Шри-Ланки назад в Мьянмар и Таиланд и, наконец, из Таиланда в Кампучию, а оттуда в Лаос. Как я уже упоминал, учения Тхеравады были записаны на языке пали, одном из индийских языков, более разговорном, чем санскрит. В каждой из названных стран на языке пали читают одни и те же тексты, известные как Трипитака, или "Три корзины". Однако в каждой стране для их записи используется местный алфавит. В странах, где получили распространение учения школы Тхеравады, существует единая система монашеских обетов: традиции женского послушания и монашества не получили развития, несмотря на наличие в рукописях текстов обетов для монахинь. Характерная особенность буддизма заключается в его приспособляемости к культурам различных стран, где он получил распространение. Например, в то время как во всех странах монашеские обеты принимаются на всю жизнь, в Таиланде возник обычай принятия обета на определенный срок. В начале XIV в. король Лугай на протяжении трех месяцев вел монашескую жизнь в одном из мужских монастырей, что положило начало уникальному тайскому обычаю, согласно которому мужчины имеют право принимать монашеские обеты на короткое время. В Таиланде есть люди, регулярно принимающие обеты на год или на несколько месяцев. Ничего подобного мы не находим ни в одной буддийской стране. Более того, тайской культуре присуща вера в духов. В этом контексте буддизм использовался следующим образом: монахи начитывали различные священные тексты, чтобы защитить людей от злых духов. Монахи считались избранными и высоко уважаемыми людьми, получавшими пропитание в виде подаяния, население преданно поддерживало их регулярными приношениями. Поскольку любой человек мог стать монахом, хотя бы на короткое время, это никогда не рассматривалось как экономически тягостное явление. С другой стороны, в Шри-Ланке традиция Тхеравады зачастую имеет научный характер. Другие традиции Хинаяны, тексты которых были записаны не на пали, а на санскрите, достигли расцвета в собственно Индии и затем из Индии распространились на запад, затем на север и на восток вдоль Шелкового пути через Центральную Азию в Китай. Наиболее важными из этих традиций были Сарвастивада и Дхармагупта. Сарвастивада отделилась от Тхеравады в конце правления короля Ашоки в середине III в. до н.э., и достигла расцвета сначала в Кашмире и Гандхаре, то есть на территории современного Пакистанского Пенджаба и Центрального Афганистана. В конце III и начале II вв. до н.э. эти районы были захвачены потомками греков, которые пришли сюда более века назад вместе с Александром Великим во время его походов в Центральную Азию и северо-западную Индию. Затем Сарвастивада распространилась на заселенные ими земли в Бактрии и Согдиане. Бактрия располагалась в районе между горами Гиндукуш в Афганистане и рекой Оксус (Аму-Дарья) и включала Афганский Туркестан и часть территории современной Туркмении. Согдиана располагалась в основном в районе между реками Оксус и Яксартес (Сыр-Дарья) и охватывала некоторые районы современного Таджикистана, Узбекистана и, вероятно, Киргизии. В середине 1 в. до н.э. она простиралась от Кашмира на север до Хотана в южной части бассейна реки Тарим в Восточном Туркестане. В конце 1 в. н.э. большая часть этих территорий входила я состав Кушанской империи, населенной центрально-азиатскими народами гуннского происхождения, которые сосредоточились на северо-западе Индии. Кушанский король Канишка был покровителем Сарвастивады и во время его правления были построены великие пещерные буддийские монастыри и научные центры в Бамиане в Центральном Афганистане, а также в Аджина-Тепе, Кара-Тепе и некоторых других местах в южном Таджикистане около современного Термеза. Также во время его царствования Сарвастивада из Кашмира попала в Ладакх. Из Хотана она начала распространяться через города-оазисы пустынь Восточного Туркестана по направлению к городу Куча, расположенному в северной части бассейна реки Тарим, и в Кашгар на западе. Была завершена запись текстов Сарвастивады на санскрите и начата работа по их переводу на хотанский язык. Однако в Центральной Азии все буддийские тексты записывались на санскрите. Принадлежащая Хинаяне школа Дхармагупты откололась от Тхервады в начале Ив. до н.э. и достигла расцвета на территории современного Белуджистана на юго-востоке Пакистана и в Парфянском царстве, особенно на территории современного восточного Ирана и некоторых районов Туркмении. Анализ священных текстов показывает, что начиная со II в. н.э., в северном Китае главной школой Хинаяны была Сарвастивада, однако линия посвящения монахов и монахинь пришла в Китай именно из школы Дхармагупты, отсюда она распространилась на Корею, Японию и Вьетнам. Тексты Махаяны начали записывать на санскрите, а открыто они появились вскоре после окончания царствования короля Канишки во II в. н.э. Вначале это имело место в районе Андхра на юго-востоке Индии, а затем эти учения быстро распространились на северную Индию, Кашмир и, особенно, Хотан, Начиная с IV в. в северной части Индии были построены великие монастырские университеты, такие как Наланда и Викрамашила. Постепенно Махаяна попала также в Западный Туркестан, где буддизм, как уже упоминалось выше, исповедовался на территориях современной Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии вплоть до арабских нашествий в VIII в., в результате которых эти районы подверглись мусульманизации. Как уже говорилось ранее, ранняя индийская Махаяна попала также в Кампучию, а через нее в южный Вьетнам. В середине II в. н.э. через Центральную Азию и Шелковый путь начались контакты Китая с буддизмом. Монахи из купеческих семей Индии, Кашмира, Согдианы, Парфии, Хотана и Кучи, многие из которых были уроженцами Китая, начали переводить буддийские тексты с санскрита на китайский язык. Сначала это были тексты Хинаяны, однако вскоре были переведены также священные тексты Махаяны. В III-IV вв. Китай был раздроблен на различные княжества делившиеся на северные и южные. В южном Китае, где продолжала существовать более традиционная китайская культура, интерес к буддизму был чисто философским, сопровождавшимся множеством рассуждений, часто путающих учения Махаяны о пустоте или отсутствии воображаемых способов существования с местными идеями небытия. На севере, где правили по большей части династии, представлявшие народы некитайского происхождения, являвшиеся дальними предками тюрков, тибетцев, монголов и маньчжуров, основное внимание уделялось медитации, а также развитию и использованию экстрасенсорных и экстрафизических сил. Поскольку переведенные тексты не были отобраны в соответствии с какой-либо системой, а термины часто заимствовались из конфуцианской традиции и только частично были эквивалентны переводимым терминам, было много путаницы относительно сущности учения Будды. Вследствие этого многие монахи совершали путешествия по Шелковому пути в Центральную Азию или по морю с целью привезти большее количество текстов и надеясь с их помощью устранить неясности; с этой же целью они посещали великие монастырские университеты. Так было собрано и привезено в Китай много текстов. При попытках сведения всех этих текстов воедино они столкнулись с серьезными проблемами. В Индии учения Махаяны не были еще достаточно унифицированы, и каждый паломник, приносивший с собой связку текстов, имел различный подбор материала, вследствие чего не было единого мнения о том, какие тексты считать важнейшими учениями Будды. Таким образом возникли различные школы китайского буддизма, отличающиеся друг от друга чаще всего тем, какой текст и какой метод из тех, которым учил Будда, признавался главным. В Китай буддизм попал также морским путем с юга. Одним из величайших индийских учителей, прибывшим в Южный Китай, был Бодхидхарма. От мастера Бодхидхармы развился так называемый чань-буддизм. В этом учении особое внимание уделяется простому и естественному бытию в гармонии с природой и вселенной, что характерно также для китайской философии даосизма. Как я уже отмечала, буддизм всегда стремится приспособиться к той культуре, в которую он входит. В южном Китае также происходит адаптация буддийских техник. Там также учат, что существует "мгновенное" просветление. Это согласуется с конфуцианской идеей о том, что человек добродетелен по своей природе, и исходит из концепции, что каждый обладает природой будды, о чем я уже сказал в начале лекции. Чань-буддизм учит, что если человек сможет успокоить все свои "искусственные" (суетные) мысли, то он сможет преодолеть все свои заблуждения и препятствия в мгновение ока, и тогда немедленно наступит просветление. Это не соответствует индийской концепции о том, что развитие способностей идет в рамках постепенного длительного процесса создания положительного потенциала, развивая сострадание и так далее путем активной помощи другим людям. В это время в Китае существовало огромное количество воюющих княжеств: в стране царил хаос. В течение длительного времени Бодхидхарма сосредоточенно размышлял о том, какие методы могут быть приемлемыми для того времени и для тех условий; он разработал то, что в последствии стало известно как боевые искусства, и начал Обучать этим искусствам. В Индии не существовала традиция боевых искусств; что-либо подобное не развилось позднее ни в Тибете, ни в Монголии, куда буддизм проник из Индии. Будда учил о тонких энергиях тела и работе с ними. Поскольку разработанная для Китая система боевых искусств также имеет дело с тонкими энергиями тела, она согласуется с буддизмом. Однако в боевых искусствах энергии тела описываются с точки зрения принятого в Китае традиционного представления об этих энергиях, которое мы находим в даосизме. Буддизму свойственно стремление развить этическую самодисциплину и способность к концентрации с тем, чтобы личность была в состоянии сосредоточиться на реальности, мудро проникая в суть вещей и преодолевая заблуждения; а также разрешить собственные проблемы и максимально помочь окружающим. Боевые искусства являются техникой, дающей возможность развить те качества личности, которые могут быть использованы для достижения той же самой цели. В Китае и в Восточной Азии наиболее популярной буддийской школой является школа Чистой земли, которая особое внимание уделяет перерождению в Чистой земле Будды Амитабы. Там все способствует тому, чтобы быстрее стать Буддой и быть в состоянии скорее приносить пользу другим. Особое внимание в Индии всегда уделялось медитативным практикам концентрации с целью достижения этой же цели. В Китае учили, что все, что надо делать, это повторять имя Амитабы. Популярность этой школы в регионе распространения китайской культуры даже в наше время объясняется, вероятно, тем, что идея перерождения Будды Амитабы в находящейся на западе Чистой земле согласуется с даосской идеей о попадании после смерти в "западный рай" бессмертных. Таким образом, мы рассмотрели различные аспекты и модификации классического китайского буддизма. Вследствие суровых преследований буддизма в Китае в середине IX в. большинство имеющих философскую ориентацию школ заглохло. Основными сохранившимися формами буддизма были школа Чистой земли и чань-буддизм. В более позднее время буддизм смешался с конфуцианским культом почитания предков и даосскими практиками гадания с палочками. В течение многих столетий буддийские тексты переводились на китайский язык с санскрита и индоевропейских языков Центральной Азии. Китайский канон более обширен, нежели палийский, ибо он включает также тексты Махаяны. Правила дисциплины и обеты для монахов и монахинь несколько отличаются от принятых в традиции Тхеравады, так как китайцы, как уже упоминалось выше, следуют другой школе Хинаяны, а именно школе Дхармагупты. Несмотря на то, что 85% обетов монахов, и монахинь те же самые, что и в текстах Тхеравады, незначительные различия существуют. В Юго-Восточной Азии монахи носят оранжевые или желтые одежды без рубашек. В Китае предпочитают одежду принятых в этой стране черного, серого и коричневого цветов с длинными рукавами, что вызвано традиционными конфуцианскими представлениями о скромности. В отличие от Тхеравады и поздних тибетских традиций в Китае существует традиция полностью посвященных монахинь2. Эта преемственная пиния посвящения продолжается в настоящее время на Тайване, в Гонконге и Южной Корее. Собственно китайская буддийская традиция существует в наше время в очень ограниченных масштабах в Китайской Народной Республике. Она наиболее распространена на Тайване, а практикуется в Гонконге, в заморских общинах китайцев на Сингапуре, в Малайзии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах, а также в Соединенных Штатах и других странах, где осели китайцы. Ранние формы буддизма, обнаруженные как в Западном, так и в Восточном Туркестане, помимо Китая, распространились на другие культуры стран Центральной Азии, однако часто к ним примешивались некоторые элементы китайской культуры. Достойным внимания является распространение буддизма среди тюрков, первого известного народа, говорившего на тюркском языке и получившего это же название. Тюркский каганат возник во второй половине VI в. и скоро распался на две части. Северные тюрки сосредоточились в районе озера Байкал, где позднее образовалась Бурятия, а южные - в долине реки Енисей, на территории Тувы - в Восточно-Сибирском регионе СССР. Тюрки населяли также значительную часть Монголии. Западные тюрки имели своими центрами Урумчи и Ташкент. Буддизм впервые попал в Тюркский каганат из Согдианы в форме Хинаяны, которой, начиная с конца Кушанского периода (II-III вв. н.э.) , были также присущи некоторые черты Махаяны. Согдийские купцы, часто встречавшиеся на всем протяжении Шелкового пути, несли свою культуру и религий. Именно они были наиболее известными переводчиками санскритских текстов на китайский и другие языки Центральной Азии; они также переводили тексты с санскрита, а в более поздний период - с китайского на свой собственный, родственный персидскому, язык. Во время существования Северного и Западного каганатов среди тюрков преобладали махаянские монахи из района Турфан в северной части реки Тарим. Некоторые тексты были переведены на старый тюркский язык индийскими, согдийскими и китайскими монахами. Это было первой известной волной распространения буддизма, достигшей Монголии, Бурятии и Тувы. В Западном Туркестане сохранялась уже существовавшая там буддийская традиция до тех пор, пока в начале XIII в. тюрки не были разбиты арабами, и эти районы не были подвергнуты мусульманизации. Уйгуры, родственный тувинцам тюркский народ, завоевали северных тюрков и правили на территории Монголии, Тувы и в близлежащих районах с середины VIII в. до середины IX в. Уйгуры также испытывали влияние буддизма из Согдианы и Китая, однако основной их религией было пришедшее из Персии манихейство. Они приняли возникшую на основе сирийской согдийскую письменность; именно от уйгуров монголы получили свою собственную письменность. Тувинский язык также использовал письменность уйгуров, буддийское влияние попало к тувинцам от уйгуров в IX в. вместе с изображениями Будды Амитабы. В середине IX в. уйгуры потерпели поражение от киргизских тюрков. Многие из них покинули Монголию и мигрировали на юго-запад в район Турфан в северной части восточного Туркестана, где длительное время существовала первая хинаянская традиция Сарвастивады, а затем Махаяна, попавшая сюда из королевства Куча. Были переведены тексты на индоевропейский кучанский язык, который известен также как тохарский. Часть уйгуров мигрировала в восточные районы Китая (современная провинция Каньсу) , где также проживали тибетцы. Эта часть уйгуров стала называться "желтые" уйгуры, многие из них являются буддистами и по сей день. Именно в это время уйгуры начали широко переводить буддийские тексты. Сначала они переводили согдийские тексты, позднее основная часть переводов делалась с китайского. Однако значительная часть переводов осуществлялась с тибетских текстов, и в уйгурском буддизме со временем все более и более преобладало тибетское влияние. Первая волна распространения буддизма в Монголии, Бурятии и Туве, полученная от тюрков и уйгуров, не была очень продолжительной. Позднее, в конце Х в начале XIII вв. тангуты из Хара-Хото, расположенного на юго-западе Монголии, получили как китайскую, так и тибетскую формы буддизма. Они перевели большое количество текстов на тангутский язык, письменность которого подобна Китайской, но намного сложнее ее. Собственно китайский буддизм, особенно принятая на севере придающая большое значение медитативным практикам его форма во второй половине IV в. из Китая попал в Корею. В IV в. из Кореи он распространился на Японию. В Корее он процветал приблизительно до конца XIV в., когда завершилось владычество монголов. До начала XII в., во время правления династии И, имевшей конфуцианскую ориентацию, буддизм был значительно ослаблен. Возродился буддизм во время правления японцев. Преобладающей формой был чань-буддизм, который в Корее получил название "сон". Эта форма буддизма имеет мощную монастырскую традицию, в которой особое внимание уделяется интенсивной медитативной практике. Получив первоначально буддизм из Кореи, японцы, начиная с VII в. ездили в Китай с целью обучения и обеспечения непрерывности преемственных линий. Привезенные ими учения вначале имели философскую окраску, однако позднее стали преобладать характерные японские черты. Как уже упоминалось, буддизм всегда адаптируется к местным традициям образу мышления. В XIII в. Синран на основе школы Чистой земли развил учение школы Дзедо Синею. Китайцы в это время уже свели индийскую практику медитации для достижения перерождения в Чистой земле Амитабы просто к многократному повторению с искренней верой имени Амитабы. Японцы сделали шаг еще дальше и упростили всю процедуру до однократного произнесения с искренней верой имени Амитабы, в результате чего человек должен попасть в Чистую землю независимо от того, сколько плохих поступков он совершил в прошлом. Дальнейшее повторение имени Будды является выражением благодарности. Японцы не придавали совершенно никакого значения медитации и совершению положительных поступков, т.к. это может предполагать недостаток веры в спасительную силу Амитабы. Это согласуется с японской культурной тенденцией избегать индивидуальных усилий, а действовать, как частица большой команды под покровительством выдающейся личности. Несмотря на то, что к этому времени в Японии существовали лишь полученные из Кореи и Китая преемственные линии посвящения в монашеский сан мужчин и женщин, Синран учил, что соблюдение целибата и монашеский образ жизни не являются обязательными. Он основал традицию, допускающую женитьбу храмовых священников, соблюдающих ограниченный набор обетов. Во второй половине XIX в. правительство Мейджи издало декрет, согласно которому духовенство всех японских буддийских сект могло заключать браки. После этого в Японии постепенно отмерла традиция монашества. В XIII в. оформилась также школа Нитирен, ее основателем был учитель Нитирен. Здесь особое внимание уделялось произнесению на японском языке названия "Лотосовой сутры" - "Нам-м хОрэн-ге к ", сопровождавшемуся ударами в барабан. Подчеркивание универсальности Будды и его природы привело к тому, что историческая фигура Будды Шакьямуни отошла на 2-й план. Утверждение, что если каждый человек в Японии будет повторять эту формулу, то Япония превратится в рай на земле, придает буддизму националистический оттенок. Основное внимание уделяется земной сфере. В XX в. на основе этой секты развилось японское националистическое движение Сока Гаккай. Традиция Чань, попав в Японию, стала называться Дзэн; первоначально она достигла расцвета в ХII-ХШ вв. Она также приобрела ярко выраженный характер, присущий японской культуре. В дзэн-буддизме присутствуют определенные влияния воинской традиции Японии, которой присуща очень суровая дисциплина: верующий должен сидеть в безупречной позе, при нарушении которой его бьют палкой. В Японии существует также традиционная религия синто, уделяющая особое внимание утонченному восприятию красоты всего сущего во всех его проявлениях. Благодаря влиянию синто в дзэн-буддизме развились традиции аранжировки цветов, чайной церемонии и другие, являющиеся полностью японскими по своим культурным особенностям. Китайская форма буддизма распространилась также во Вьетнаме. На юге, начиная с конца II в. н.э., преобладали индийская и кхмерская формы буддизма, причем следует отметить смешение Тхеравады, Махаяны и индуизма. В XV в. они были вытеснены китайскими традициями. На севере была первоначально распространена традиция Тхеравады, попавшая сюда по морю, а также буддийские влияния из Центральной Азии, которые были занесены осевшими здесь купцами. Во II-III вв. имели место различные китайские культурные влияния. К концу VI в. относится появление чань-будцизма, известного во Вьетнаме как Тьен. Практики Чистой земли также стали частью Тьен, они были ориентированы на социальные и политические проблемы. Традиция Тьен в значительно меньшей степени, чем Чань, отстранялась от мирских дел. В Корее, Японии и Вьетнаме сохранился китайский буддийский канон, записанный китайскими иероглифами, однако в каждой из этих стран он произносился по-своему. Несмотря на то, что многие тексты были переведены на национальные языки, классический китайский язык оставался главным. В это время (IV в. н.э. и далее) в монастырских университетах Индии продолжалась устная разработка идей буддизма. Значительное развитие получили логика и философия как школы Сарвастивады, так и Махаяны. Учение Будды послужило основой для разработки различных философских систем, например, Вайбхашики и Саутрантики в Сарвастиваде, Читтаматры, известной также как Виджнянавада и Мадхьямики, включая Сватантрику и Прасангику, в Махаяне. Самое главное различие между ними, помимо многих менее значительных, состоит в том, что каждая следующая из этих систем дает более тонкий анализ действительности, так как именно незнание индивидуумом действительности является причиной периодического неконтролируемого повторения его проблем. Индийские учителя, придерживавшиеся различных точек зрения, оставили комментарии ко многим священным текстам Будды. Среди наиболее известных авторов были Нагарджуна, написавший комментарии к Мадхьямике, и Асанга, сочинивший комментарии к Читтаматре. Большие дискуссии были не только между ними, но и со сторонниками таких великих философских традиций как индуизм и джайнизм, также развившихся в Этот период. Читтаматра и Мадхьямика попали в Китай и существовали там как отдельные школы, однако в результате преследований в середине IX в. они заглохли. Тексты тантр, относящиеся к Махаяне, и особенно к Мадхьямике, передавались со времени Будды особенно тайно, их начали записывать, вероятно, во II-III вв. н.э. Тантра подчеркивает использование воображения с применением техник визуализации самого себя в образе Будды, в различных его обликах при полном осознании соответствующей реальности. Представляя самого себя уже обладающим телом и разумом Будды, мы создаем причины для более быстрого достижения этого объединяющего состояния, чем с помощью обычных махаянских методов, и таким образом можем скорее начать помогать другим людям. Множество лиц, рук и ног у некоторых из изображений Будды имеет несколько уровней, символически представляющих различные реализации на пути. Их визуализация помогает одновременно удержать в уме все эти прозрения, которые они символизируют с тем, чтобы более эффективно способствовать воссозданию всеведущего ума Будды. Тексты тантр, относящиеся к Махаяне, и особенно к Мадхьямике, передавались со времени Будды особенно тайно, их начали записывать, вероятно, во II-III вв. н.э. Тантра подчеркивает использование воображения с применением техник визуализации самого себя в образе Будды, в различных его обликах при полном осознании соответствующей реальности. Представляя самого себя уже обладающим телом и разумом Будды, мы создаем причины для более быстрого достижения этого объединяющего состояния, чем с помощью обычных махаянских методов, и таким образом можем скорее начать помогать другим людям. Множество лиц, рук и ног у некоторых из изображений Будды имеет несколько уровней, символически представляющих различные реализации на пути. Их визуализация помогает одновременно удержать в уме все эти прозрения, которые они символизируют с тем, чтобы более эффективно способствовать воссозданию всеведущего ума Будды. Теперь относительно тантры. Существуют четыре класса тантр, В Китай и Японию попали преимущественно первые три класса и частично четвертый. Однако именно он с течением времени получил наиболее полное развитие в Индии. В четвертом классе тантр, Ануттара-йоге, акцент на работе с различными тонкими энергиями тела для обретения доступа к наиболее тонкому уровню сознания, чтобы затем использовать его как инструмент постижения реальности с целью разрешения собственных проблем и обретения способности помогать другим наиболее эффективно. В течение этого времени Махаяна вместе с тантрой распространилась из Индии, особенно из ее восточных районов, в страны Юго-Восточной Азии. Как уже отмечалось ранее, эти учения попали в Шри-Ланку (Цейлон) и Мьянмар (Бирма) , однако они не стали господствующими, так как ранее там утвердилась Тхеравада. В Кампучии (Камбоджа) и в северной части Таиланда, начиная с IV в., Махаяна была распространена наряду с Тхеравадой и индуизмом. Со временем и там тоже она была вытеснена Тхеравадой. В Индонезии контакты с индийской культурой, и в том числе с буддизмом в виде Тхеравады и Махаяны, начались во II-III вв. н.э. на Суматре, Яве и Сулавеси (Целебес) . В конце V в. Махаяна, включая тантру, попала на Центральную Яву и очень там усилилась: буддизм был официально принят королевой. Ранее в этом районе преобладала Тхеравада. Как и в Кхмерском королевстве (Кампучия) здесь, наряду с буддизмом процветал индуизм в форме шиваизма, зачастую они смешивались, Для приобретения могущества некоторые верующие использовали также элементы местных ритуалов и спиритизма. В конце VII в. буддизм стал официальной религией на Суматре. В начале IX в. на Яве построили великий комплекс ступ Боробудур. К середине IX в. яванские короли завоевали Суматру, а также Малайский полуостров. На всей этой территории процветала Махаяна, включая все четыре класса тантр. В конце Х в. великий индийский мастер Атиша посетил Сурварнадвипу, которую можно идентифицировать как Суматру. Он ездил туда с целью возвращения махаянской преемственной линии учений о Бодхичитте, о том, как раскрыть сердце всех и стать буддой, чтобы помогать людям. Он вернул эти учения не только в Индию, но и в Тибет, где способствовал возрождению буддизма после периода преследований и упадка. Атиша сообщил, что в это время в Индонезии были распространены учения Калачакра Тантры. В конце XIII в. на Суматре, Яве и в Малайзии распространился ислам, завез нный сюда арабскими и индийскими купцами, основавшими на побережье торговые центры. К концу XV в. здесь господствовал ислам, а буддизм был утрачен. Только на Бали сохранилась смешанная форма индуистского шиваизма и махаянского тантрического буддизма. В этот период Махаяна и все четыре класса тантр попали также в Непал, где со времени короля Ашоки существовала ранняя Хинаяна. Махаяна не только вытеснила Хинаяну, но и сохранилась в индийской санскритской форме до наших дней среди неваров в Центральном Непале. Первыми тибетцами, оказавшими предпочтение буддизму, был народ чианг. Это произошло в конце IV в. н.э., когда они управляли частью северного Китая, что, однако, не оказало влияния на собственно Тибет. В первой половине VII в. состоялись первые контакты Тибета с буддизмом (его махаянской традицией) , пришедшим из Хотана, расположенного в южной части бассейна реки Тарим в Восточном Туркестане. Эти события имели место во время правления короля Сонгцен гампо, который властвовал в центральном и восточном Тибете, в Шан-Шуне в Западном Тибете, в северной части Мьянмара (Бирма) и, в течение некоторого времени, в Непале. Он женился на китайской и непальской принцессах; обе принцессы привезли с собой изображения Будды, а также астрологические и медицинские тексты тех традиций, которым они следовали. Король направил в Кашмир миссию с целью разработки более совершенной системы тибетской письменности; существовавшая в Тибете письменность была заимствована из Шан-Шуна, она также испытала некоторое влияние хотанской письменности. В это время начали переводить с санскрита буддийские тексты, однако работы не имели большого масштаба. Между этим периодом и известным диспутом монастыре Самье в конце VIII в., когда во время правления короля Тризонг-детцена было принято решение, что в Тибете будет принята не китайская, а индийская форма буддизма, состоялись контакты с другими буддийскими традициями. В это время владычество Тибета распространялось на государства-оазисы пустынь Восточного Туркестане, контакты с буддизмом в Западном Туркестане простирались до Самарканда. Именно король Тризонг-детцен завоевал и в течение короткого времени удерживал китайскую столицу Чанъянь. Хотя на этом диспуте китайский буддизм был отвергнут, некоторое влияние традиции чань можно обнаружить в тех школах тибетского буддизма, которые говорят о двух типах верующих: о тех, кто достигает всего сразу же, и о тех, кто проходит путь постепенно. Первая школа напоминает учение чань о стремительном просветлении (о нем было сказано выше) , однако в Тибете оно интерпретируется совершенно по-другому. В Киргизии были обнаружены руины буддийских монастырей, датируемые VI-Х вв. Неясно, принадлежат ли они традиции западных тюрков или уйгуров, а также сколь велико было здесь влияние Тибета. В долинах рек Или и Чу, расположенных восточнее или западнее озера Иссык-Куль, найдено множество наскальных буддийских надписей на тибетском языке, датируемых именно этим и более поздним периодами, что свидетельствует о присутствии тибетской буддийской культуры в этих районах. Добуддийская тибетская традиция бон достигла расцвета в королевстве Шан-Шун, самый западный район ее распространения - Тазик. Трудно сказать, расположен ли Тазик на территории современного Таджикистана. Эту традицию исследует отождествлять с распространенным в Центральной Азии шаманизмом, хотя они и имеют общие черты. В тибетском буддизме присутствует некоторое влияние шаманизма, преимущественно в таких ритуалах, как привязывание к деревьям молитвенных флагов, выполнение всевозможных обрядов с целый умилостивить духов, хранителей горных перевалов и т.д. Традиция бон существует и в наши дни, но она столь тесно слилась с буддизмом, что практически является еще одной его линией. В этой традиции используется другая терминология и другие названия священных образов, однако основные техники имеют очень много общего с тибетскими буддийскими техниками, развившимися на основе первой волны распространения буддизма в Тибете. Первая волна буддизма пришла в Тибет преимущественно благодаря усилиям Падмасамбхавы, или Гуру Ринпоче, как он стал известен среди тибетцев. Он положил начало традиции Ньингма, или "старых (переводов) ". В середине IX в. имели место сильные гонения на буддизм, и традиция Ньингма продолжала существовать в основном тайно, многие тексты были спрятаны в пещерах и обнаружены вновь через несколько столетий. После наступления более благоприятного времени, начиная приблизительно с Х в., из Индии пригласили новых учителей и в Тибет пришла другая волна буддизма. Она известна как период "новых (переводов) ", когда получили развитие три главные традиции: Сакья, Кагью и Кадам. В XIV в. традиция Кадам была преобразована в Новую Кадам, или Гелуг. В традиции Кагью существуют две главные линии. Дагпо Кагью развилась из линии Тилопы, Наропы, Марпы, Миларепы и Гампопы. Она подразделяется на 12 разных линий, одна из них Карма Кагью, главой которой традиционно является Кармапа. Наиболее важными из этих 12 линий являются Другпа, Дрикунг и Таг-лунг Кагью. Вторая главная линия Кагью, Шангпа, ведет свое происхождение от индийского мастера Кхьюнгпо Налжор. Традиция Сакья идет от великого индийского мастера Вирупы, а Кадам - от индийского мастера Атиши, который, прежде чем отправиться в Тибет, совершил путешествие в Индонезию с целью возрождения некоторых линий Махаяны, попавших туда, как уже упоминалось, из Индии. Традиция Новая Кадам, или Гелуг, была основана Тзонкапой. Одной из величайших фигур в тибетском буддизме является Далай-лама; Далай-лама 1 был учеником Тзонкхапы, когда 3-й его "перерожденец" прибыл в Монголию, ему дали имя "Далай", по-монгольски "океан", а предыдущие его перерождения после смерти были признаны как Далай-ламы 1 и II. Далай-лама IV родился в Монголии; Далай-лама V объединил весь Тибет и стал не только духовным, но и политическим лидером. Неверно полагать, что Далай-лама является главой традиции Гелуг; ее возглавляет Гандэн Три Ринпоче. Далай-лама стоит выше любого главы любой из традиций, являясь покровителем всего тибетского буддизма. Панчен-лама 1 был одним из учителей Далай-ламы V. В отличие от Далай-ламы Панчен-лама занимается исключительно духовными делами. Когда возраст Далай-ламы и Панчен-ламы был подходящим, тогда один из них мог стать учителем другого. Анализируя четыре традиции тибетского буддизма, мы приходим к выводу, что общее у них составляет приблизительно 85%, Все они следуют учениям Индии как своей первоначальной основе. Все они изучают философские догматы четырех буддийских традиций Индии, рассматривая это как путь к достижению все более тонкого понимания реальности. В этом отношении они все признавали, что наиболее совершенной является Мадхьямика. Все они соблюдают традицию проведения диспутов, широко распространенную в индийских монастырях, а также традицию великих созерцателей Индии, махасиддх. Все они следуют объединенному пути сутры и тантр, которые являются общей махаянской основой этих учений. Общей для них является и традиция монашеских обетов; это традиция хинаянской школы Мула-Сарвастивады, развившаяся из Сарвастивады и незначительно отличающаяся от распространенной в Юго-Восточной Азии и Китае традиции Тхеравады. В Тибете не получила распространения традиция полностью посвященных монахинь, хотя в тибетских монастырях существовал институт послушниц. Приблизительно 85% монашеских обетов не отличаются от обетов других традиций. Однако незначительные различия существуют. Одежда монахов темно-бордового цвета, а рубашки не имеют рукавов. Буддийские тексты переводились на тибетский язык главным образом с санскрита, лишь некоторые были переведены с китайского, в случае, когда был утерян санскритский подлинник. Тексты хранятся в двух главных собраниях: Кэнгьюр, объединяющий подлинные слова Будды, и Тэнгьюр, в котором собраны индийские комментарии. Это самый крупный корпус буддийской канонической литературы, содержащий наиболее полное изложение индийской буддийской традиции, что особенно ценно, так как начиная с ХII-ХIII вв. буддизм в Индии потерял влияние в результате тюркских вторжений из Афганистана. Большинство утраченных санскритских подлинников сохранилось исключительно в тибетских переводах. Таким образом, Тибет стал наследником индийского буддизма в то время, когда в самой Индии он оформился в виде традиции, признающей постепенный путь. Великий вклад тибетцев в буддизм состоит в дальнейшем развитии его организации и методов обучения. Тибетцы разработали способы раскрытия всех основных текстов и прекрасные системы толкования и обучения. Из Тибета буддизм проник в другие районы Гималаев, такие как Ладакх, Лахул-Спити, Киннуар, область Шерпа в Непале, Сикким, Бутан и Аруначал. Однако наиболее масштабным было распространение буддизма в Монголии в конце VI в. во время тюркского, а затем и уйгурского правления в Монголию пришла из Центральной Азии первая волна учений махаянского буддизма. Позднее, в XVII в. Монголия была искусственно разделена маньчжурами на Внешнюю и Внутреннюю Это произошло до завоевания ими Китая, Буддизм распространился на территории всей Монголии. Вторая, более крупная волна пришла их Тибета в ХН1 в. во времена хана Хубилая, когда в Монголию прибыл великий мастер традиции Сакья Пхагпа-лама. Для помощи в переводе буддийских текстов он разработал новую монгольскую письменность. В это время в Монголию пришли также учителя традиции Карма Кагью. Тибетский буддизм был принят также некоторыми другими наследниками Чингиз-хана, а именно: ханами Чигитай, правившими в Восточном и Западном Туркестане, и ханами Или, правившими в Персии. фактически в течение нескольких десятилетий тибетский буддизм был государственной религией Персии, хотя он и не получил поддержки коренного мусульманского населения. В середине XIV в., с падением в Китае монгольской династии Юань, влияние буддизма в Монголии, поддерживавшегося в основном знатью, ослабело. Третья волна буддизма пришла в Монголию в конце XVI в. благодаря усилиям Далай-ламы III, когда главной формой распространившегося среди монголов тибетского буддизма стала традиция Гелуг. Однако незначительные следы традиций Сакья и Кагью сохранились несмотря на то, что они не были признаны официально. В некоторых небольших монастырях продолжали практиковать традицию Ньингма, однако ее истоки не ясны: происходит она от тибетских традиций собственно школы Ньингма или же от практик Ньингма, восходящих к "Чистым видениям" Далай-ламы V. Первоначальный стиль возведения тибетских монастырей возник в конце XVI в. при постройке монастыря Эрдэни-Цзу на месте древней столицы Каракорум. С тибетского языка на монгольский были переведены полные собрания текстов Кэнгьюр и Тэнгьюр. Выдающиеся монгольские ученые написали комментарии к буддийским текстам иногда на монгольском, но большей частью на тибетском языке. В Монголию из Тибета перешла традиция монастырской жизни монахов, но традиция послушниц не попала ни в Монголию, ни в районы с бурятским, тувинским и калмыцким населением. Линия перерождений тибетского мастера Таранатхи стала известна как линия Богдо-гегенов, или Джебцун-дамба Хутухт, которые стали традиционными главами буддизма в Монголии. Их резиденция находилась в Урге (ныне Улан-Батор) . С течением времени тибетский буддизм несколько приспособился к условиям Монголии. Например, 1-й Богдо-геген Дзанабазар (вторая половина XVII - начало XVIII вв.) создал специальную одежду монгольских монахов для ношения главным образом в свободное от выполнения церемоний время. На основе уйгурской и монгольской письменности он разработал также алфавит союмбу, использовавшийся для транслитерации тибетских и санскритских слов. В XVII в. тибетский буддизм, и в первую очередь традиция Гелуг, попал к маньчжурам, а во время их правления - в Маньчжурию и в северные области Китая. Был основан тибетский монастырь в Пекине, а в Гехоле, летней столице маньчжуров, расположенном на северо-востоке от Пекина были построены точные копии лхасской Поталы, а также монастырей Самье и Ташилунпо. Кэнгьюр был полностью переведен с тибетского языка на маньчжурский, в основе которого лежит адаптированный монголами уйгурский шрифт. В начале XVII в. тибетский буддизм из Монголии проник на север к бурятскому населению Забайкалья. Вторая линия пришла непосредственно из Тибета из монастыря Лабранг Ташикьил в провинции Ам-до. С целью ослабления позиции Богдо-гегенов и влияния монголов и маньчжуров в этой части России, царь дал настоятелям Гусиноозерского дацана как главам бурятского буддизма титул Бандидо Хамбо-Лама. Таким образом бурятская традиция стала официально независимой от монгольской церкви. В 20-х годах нашего века часть бурят переселилась из Забайкалья во Внутреннюю Монголию и там продолжила свои собственные буддийские традиции в дополнение к тем, что уже существовали в этой области. В XVIII в. тибетский буддизм из Монголии попал также к тюркскому населению Тувы, хотя, как было отмечено ранее, первая волна буддизма пришла в Туву в IX в. от уйгуров. Как и в Забайкалье, это была главным образом традиция Гелуг; традиция Ньингма также получила значительное распространение. Настоятели Чаданского хурэ как главы тувинского буддизма получили титул Хамбу-лама. Поскольку Тува, подобно Монголии, до 1912 г. находилась под маньчжурским правлением, тувинские Хамбу-ламы подчинялись непосредственно Богдо-гегенам в Урге: тувинский буддизм имел значительно более тесные связи с Монголией, чем бурятский. В Туве буддизм мирно сосуществовал с местной традицией шаманизма: в одних случаях люди обращались к шаманам, а в других - к буддийским священникам. К западным монголам, ойратам, тибетский буддизм впервые попал в XIII в., однако не получил здесь широкого распространения. Более глубокие корни он пустил в конце XVI - начале XVII вв., когда получила распространение традиция Гелуг, пришедшая непосредственно из Тибета и отчасти через Монголию. Это было в Джунгарии в Восточном Туркестане (ныне северная провинция Синь-Цзянь, в КНР) , в Восточном Казахстане, а также, возможно, на Алтае. Шаманизм в этих районах был запрещен Советом ханов. Когда предки калмыков отделились от ойратов Джунгарии в начале XVII в. переместились в район между Волгой и Доном к северу от Каспийского моря, они принесли с собой собственную традицию тибетского буддизма. Большую помощь им оказал ойрат Зая Пандита, Намкхаи Гиятсо, который на основе монгольской письменности разработал калмыцко-ойратскую письменность. Глава калмыцкого буддизма назначался царем и именовался Лама калмыцкого народа. Его резиденция располагалась в Астрахани, и, подобно бурятскому Бандидо Хамбо-ламе, он был совершенно независим от монголов. Духовное руководство калмыки получили непосредственно из Тибета. Несмотря на то, что наибольшее распространение у калмыков получила традиция Гелуг, вследствие присущего им синкретизма они приняли также некоторые обряды традиций Сакья и Кагью. В XVIII в. маньчжуры истребили ойратов в Джунгарии; во второй половине того же столетия многие калмыки вернулись в Джунгарию и присоединились к ойратам, еще остававшимся в этой области, принеся с собой сильную буддийскую традицию. Эта традиция продолжает существовать среди ойратов в северных районах Восточного Туркестана. Одна ветвь тувинцев, также подвергшихся гонениям маньчжуров, дошла до центральной части Восточного Туркестана, и, очевидно, основала собственную традицию тибетского буддизма в районах Урумчи и Турфан. Кроме того, одним из наставников Далай-ламы XIII был бурятский лама Агван Доржиев. Под его влиянием в Петрограде в 1915 г. был построен тибетский буддийский монастырь традиции Гелуг. Итак, мы видим, что буддийские учения широко распространились во всех наиболее важных регионах Азии. В каждом из этих регионов буддизм адаптировался к местным обычаям и традициям и, в свою очередь, каждая культура внесла в его развитие свои характерные черты. Все это находится в соответствии с основным буддийским методом обучения с помощью "искусных средств". Существует множество техник и методов, используя которые можно помочь людям преодолеть собственные проблемы и ограничения, реализовать возможности с тем, чтобы наиболее эффективно помогать другим. Таким образом, хотя существует много различных форм буддизма, все они, основываясь на учениях Будды, согласуются друг с другом. |
|
... и, наконец, о самом сокровенном... учите наизусть и повторяйте каждый день, сколько сможете: I. Строфы-близнецы Ум – их глава и материал. Когда с распущенным умом Мы действуем и говорим, То, как колеса за волом, Вслед нам несчастие идёт. Внимание – зачин всему, Глава и материал всего. Когда с вниманием дурным Мы действуем и говорим, То, как колеса за волом, Вслед нам несчастие идёт. Ум дхармы за собой ведёт, [1] Ум – их глава и материал. Когда с очищенным умом Мы действуем и говорим, То неотступное, как тень, За нами счастие идёт. Внимание – зачин всему, Глава и материал всего. Когда с вниманием благим Мы действуем и говорим, То неотступное, как тень, За нами счастие идёт. «Он меня побил, охаял, Одолел и обездолил», – Раз связавшись с этой мыслью, Не расстанешься с враждою. «Он меня побил, охаял, Одолел и обездолил», – Развязавшись с этой мыслью, Ты расстанешься с враждою. Никогда не удаётся Замирить вражду враждою, Удаётся – невраждою, И предвечна эта правда. [2] Многие не осознали, Как мы здесь гнетём друг друга, Те, кто это осознали, Отвратились от вражды. Тот, кто ловится прекрасным И подвластен впечатленьям, А в еде не знает меры, Сам же – вял и нерадив, – Словно чахлый кустик бурей, Будет Марой сокрушён. Кто не ловится прекрасным, Не подвластен впечатленьям И в еде кто знает меру, Полон веры и радив, – Как скала во время бури, Против Мары устоит. Тот, кто в монашеском обличии Изобличается в постыдном, – Неистинно самообуздан И не достоин облачения. Кто чист перед изобличением И в добродетель облачён, – Тот истинно самообуздан И будет облечён по праву. Кому в неглавном мнится главное, Кто в главном видит лишь неглавное, – Тот не возвысится до главного, И тщетны все его намеренья. Кто понял главное как главное, Неглавное же – как неглавное, – Вот кто возвысится до главного, Ведь истовы его намеренья. Как дождь проникает в жилище Сквозь ненадёжную кровлю, Так страсть проникает в сознание, Если его не развить. Как сквозь надёжную кровлю Дождь не проникает в жилище, Так, если сознание развито, Страсть не проникает в него. Здесь печален он и после смерти: В двух мирах печален зла содетель. Он печалится и безутешен, Прозирая мерзость своих дел. Здесь доволен он и после смерти: В двух мирах доволен добродей. Радуется он и предоволен, Прозирая благость своих дел. Здесь казнится он и после смерти: В двух мирах казнится зла содетель. Здесь казнится, осознав злодейство, А того сильнее – в злом уделе. Здесь ликует он и после смерти: В двух мирах ликует добродей. Здесь ликует, зная о заслуге, А того сильней – в благом уделе. Слова о Сути произносит часто Беспечный муж, да не по ним живёт. Он, как пастух, чужих коров считает. К подвижничеству не причастен он. Пусть слов о Сути произносит мало, Но тот, кто жизнью воплощает дхарму, – Отринет злобу, страсть и морок, До мудрого воззрения возвысится, Освободит сознание от тяги И к видимому, и к иному миру, – К подвижничеству будет приобщён. II. Небеспечность Беспечность – путь, ведущий к смерти. Не умирают небеспечные. Беспечные, считай, мертвы. Небеспечности достоинства Видят умные отчётливо; Беспечально-небеспечные Рады ариям последовать. В созерцании упорные, Стойко преданные подвигу, Обретут унятье [3] мудрые Несравненное, надёжное. Кто памятует и исполнен рвения, Делами чист, живёт по дхарме, сдержан, Кто осмотрителен и не беспечен, – Тот добрую стяжает славу. Старательно и небеспечливо Смиреньем, самообузданием Мудрец пусть остров [4] сотворит себе, Для паводков недосягаемый. Предаются беспечности Безрассудные, глупые. Стерегут, как сокровище, Небеспечливость умные. Откажитесь от беспечности, Чувств утехам не потворствуйте. Небеспечный в созерцании Счастье обретёт великое. Когда умный прочь прогонит Небеспечностью беспечность, В мудрости чертог поднявшись, Он, бесскорбный, вниз посмотрит На печалящийся люд, Как взошедший на вершину Смотрит на народ равнины, А мудрец – на дураков. Небеспечный муж беспечных, Бодрствующий среди сонных. Вырвется вперёд разумный, Как рысак, одра обгонит. Магхаван [5] небеспечностью Стал царём небожителей. Небеспечливость славится, Но презренна беспечность. Монах, небеспечности преданный, Беспечность считает опасной. Он, словно пожар, все преграды [6] Сжигает и дальше идёт. Монах, небеспечности преданный, Беспечность считает опасной. Успехи его неизменны, Ведь он уже близок к унятию. III. Сознание Неуправляемое, взбалмошное Разумный выправит сознание, Как мастер выправит стрелу. Как рыба, что на берег брошена, Разлучена с родной обителью, – Так бьётся и дрожит сознание, Чтоб вырваться из царства Мары. [7] Неудержимое и вёрткое, Бредущее, куда захочется, Сознание должно быть смирено. Смирённое – приводит к счастью. Неисследимое, тончайшее, Бредущее, куда захочется, Мудрец пусть охранит сознание. Хранимое – приводит к счастью. Блуждающее, одинокое, Бесплотное и потаённое Кто сможет усмирить сознание, – Тот узы Мары разорвёт. С неустойчивым сознанием, Истой дхарме не внимающим, С замутняющейся верою – Мудрости не преисполнишься. Для невязкого сознания, Безучастного к желаниям, Зло и благо превзошедшего, Бдительного, – нет опасности. Хрупкому сосуду тело уподобив, Преврати сознание в укреплённый город, Мару порази в бою мудрости оружием; Сбереги победу, но не привяжись к ней. Это тело изношенное Скоро, духом покинуто, Будет на землю брошено, Как полено никчёмное. Того ни враг врагу не сделает, Ни ненавистник ненавистнику, Что может сотворить сознание, К превратной цели устремлённое. Ни благодетели, ни родичи, Ни мать с отцом того не сделают, Что достижимо для сознания, К прекрасной цели устремлённого. IV. Цветы И Ямы мир с его богами? Кто из прекрасных строф о дхарме, Как из цветов, сплетёт венок? Ведомый [8] одолеет землю И Ямы мир с его богами, Он из прекрасных строф о дхарме, Как из цветов, сплетёт венок. Мареву и пене [9] тело уподобив, Ясно усмотри в нём видимость, не больше; Стрелам Мары, как цветам, обломи их стебли, – И незримым станешь для владыки смерти. Кто от цветка спешит к цветку, Кто к ним привязан всей душой, – Того захватит смерть врасплох, Как паводок в ночи – село. Кто от цветка спешит к цветку, Кто к ним привязан всей душой И чувственно неутолим, – Не устоит перед концом. Как с цветов пчела уносит Их нектар, не повреждая Ни красы, ни аромата, – Так монах пусть к людям ходит. Не считай чужих проступков, Не раздумывай о них, Самого себя исследуй: Что ты сделал, а что – нет. Ярко сказанные речи, Коль не следовать им в жизни, Безуханному подобны, Пусть и сочному, цветку. Ярко сказанные речи, Коли следовать им в жизни, Своей свежестью подобны Благовонному цветку. Как цветочный пёстрый ворох Можно превратить в гирлянду, Так рождённый в мире смертных Должен сделать много блага. Лишь ветер в стороны разносит Цветочное благоуханье И благовоние сандала. Зато само, без дуновенья, Распространяется повсюду Благоуханье добрых нравов. Что благовоние сандала? Что аромат расцветших лилий? Их ароматов много тоньше Благоуханье чистых нравов. Куренья благовонных палочек Растают в воздухе, нестойкие. А добрых нравов благовоние Возносится до небожителей. Кто в обетах безупречен, Небеспечен неизменно, Истой мудростью свободен, – Мара тех тропы не сыщет. Как порой на куче мусора, Сваленного у обочины, Ты цветок завидишь лотоса – Яркий и благоухающий, – Так в толпе, подобной мусору, Меж незрячих обывателей Ярко блещет своей мудростью Слушатель Всепробужденного. V. Дураки Долог путь, когда устанешь. Долго кружатся в рожденьях Дураки, глухие к дхарме. Коли не найдёшь ты спутника, Равного себе иль лучшего, Странствуй в стойком одиночестве: С дураком не выйдет дружества. Гложут дурака заботы "О своём" – добре, потомстве... Право, он ведь сам не свой. Чьё ж потомство, чьё добро? Зная глупость за собою, И дурак умён отчасти. А умом кичиться станет – Будет истинно дурак. Всю жизнь свою при мудреце Дурак провёл – и то напрасно. Вкус дхармы он воспринял так же, Как поварёшка – вкус еды. Лишь полчаса при мудреце Провёл разумный, но недаром. Он так же дхармы вкус воспринял, Как вкус еды на языке. Дураки, дурные головы, Как враги, к себе относятся. Скверные творят деяния, Пожиная горький плод. Нехорошее то дело, О котором пожалеешь, И в слезах, стеная тяжко, Пожинаешь этот плод. А хорошее то дело, О котором не жалеешь, В радости и с восхищеньем Пожиная его плод. Мнится зло медвяно-сладким Дураку, пока незрело. Но когда оно созреет, Глупый в муки окунётся. С кончика травинки куша [10] Месяцами ест дурак, А не стоит пол-осьмушки Тех, кто дхарму осознал. И молоко не вдруг свернётся, И зло не вдруг к глупцу вернётся, [11] Но своего дождётся срока, Таясь, как угли, под золою. Известность, право, не на пользу Порой приходит к дураку. Его благая часть хиреет, И кругом голова идёт: Не заслужив того, он хочет Главенствовать среди монахов, Жилищами распоряжаться, У посторонних быть в чести: «Пускай монахи и миряне Мои заслуги признают И все зависят от меня Во всяком деле, даже малом», – Так замыслы дурак питает, Плодит гордыню и алчбу. Но к выгоде – одна дорога, К унятию ведёт другая. Увидевшему это ясно Монаху, слушателю Будды, Не к почестям стремиться стоит, Но возлюбить уединенье. VIII. Тысячи Что полны беспредметных слов, – А лучше слово об одном, Когда оно покой несёт. Скажи хоть тысячу речей, Что полны беспредметных слов, – Прекраснее одна строфа, Когда она покой несёт. Произнеси хоть сотню строф, Что полны беспредметных слов, – Прекраснее единый стих О дхарме, что покой несёт. Не – взявший верх в сражении Над тысячей противников, Но тот, кто победил себя, Стал высшим победителем. Победы над другими лучше Победа над самим собою Самообузданного мужа, Что неизменно собран духом. Ни небожитель, на гандхарва, Ни Мара, ни Великий Брахма Победы отобрать не смогут У победителя такого. Чем жертвовать столетия, Да что ни месяц – тысячу, Почтите на единый миг Развившего вполне свой дух. Ведь этот миг весомей жертв, За целый век принесённых. Чем жертвенный костёр в лесу Блюсти прилежно сотню лет, Почтите на единый миг Вполне развившего свой дух. Ведь этот миг весомей жертв, За целый век принесённых. У почитающего зрелых, Всегда приветливого нравом Четыре дхармы возрастают: Краса, век, счастие и сила. Чем целый век впустую жить Безнравственно, рассеянно, Блаженнее прожить хоть день, Да нравственно и собранно. Чем целый век впустую жить Бездумно и рассеянно, Блаженнее прожить хоть день Осмысленно и собранно. Чем целый век впустую жить Лениво, нерачительно, Блаженнее прожить хоть день Рачительно, с усердием. Чем целый век впустую жить Слепым к превратности вещей, Блаженнее прожить хоть день, Прозрев к превратности вещей. Чем целый век впустую жить Слепым к стезе бессмертия, Блаженнее прожить хоть день, Узрев стезю бессмертия. Чем целый век впустую жить Слепым для высшей дхармы, Блаженнее прожить хоть день, Прозрев для высшей дхармы. IX. Дурное От злого отвращайте мысли: Ничем хорошим не занявшись, Потянется к дурному ум. Единожды свершив дурное, Его не умножайте снова, Намеренья на нём не стройте, Ведь тяжко накопленье зла. Единожды свершив благое, Его же умножайте снова, Намеренья на нём постройте. Блаженно умножать добро. Добро до срока видит злой: Покуда зло его незрело. Когда же зло его созреет, Увидит злой одно лишь зло. И добрый видит зло до срока, Пока добро его незрело. Зато, когда добро созреет, Увидит добрый лишь добро. Неверно думать: «Хоть поступок дурен, Ничтожен он и минет без следа». Как бочка наполняется по капле, Так глупый понемногу копит зло, Пока оно его не переполнит. Неверно думать: «Хоть хорош поступок, Ничтожен он и минет без следа». Как бочка наполняется по капле, Так мудрый понемногу копит благо И переполнится им наконец. Как купец с тугой мошною, Чья охрана не надёжна, Троп опасных сторонится; Как отравы избегает Дорожащий своей жизнью, – Так же сторонись дурного. Ладони непораненной От яда нет опасности. Нет раны, – и безвреден яд. Кто сам не зол, – не встретит зла. К безумцу в злобе на беззлобного, Безвинного и безупречного Его же зло вернётся, словно На ветер брошенная пыль. В утробах вновь родятся многие. Злодей в кромешную низвергнется. На небо вознесётся праведник. Бесстрастный обретёт унятие. [12] Ни в поднебесье, ни в морской пучине, Ни среди гор, в расщелине скалистой, – Ты в целом мире не отыщешь места, Чтоб схорониться от дурных деяний. Ни в поднебесье, ни в морской пучине, Ни среди гор, в расщелине скалистой, – Нигде ты в мире спрятаться не сможешь От смерти, что везде тебя отыщет. Наказанья боятся все. Перед смертью трепещут все. От других ты неотличим. Не убий, не вели убить. Наказанья боятся все. Дорожат своей жизнью все. От других ты неотличим. Не убий, не вели убить. Кто, своего взыскуя счастья, Других терзает наказаньем – А счастье всем живым желанно, – Не обретет в посмертье счастья. Кто, своего взыскуя счастья, Других не мучит наказаньем – Ведь счастье всем живым желанно, – Тот обретёт в посмертье счастье. Слова грубого не вымолви – А не то столкнёшься с грубостью. Тяжко слушать речь сварливую, Сам же за неё поплатишься. Если внутренне металлом ты На удар не отзываешься, Значит, ты достиг унятия, Больше нет в тебе сварливости. Как гонит палкою пастух Коров на пастбище из хлева, Так смерть и старость – царь с министром – Прочь гонят подданных из жизни. Карающего неповинных, Злобесного против беззлобных Настигнет очень скоро в мире Из десяти одна беда: Острая боль, несчастный случай Иль тяжкое увечье тела, А то – недуг неизлечимый Иль повреждение ума, От царской власти притесненье И обвинение в злодействе. Быть может, он лишится ближних, Утратит всё своё именье, Дома его пожар спалит. С распадом тела скудоумный Злочинец попадает в ад. Пусть ходишь ты нагим, на голове колтун, Не моешься, моришь себя постами, Спишь на сырой земле и грязью весь зарос, Или сидишь на корточках недвижно, – Ничто тебя, о смертный, не очистит, Покуда ты не превозмог сомнений. Найдётся ли на целом свете Муж, сдержанный своей же совестью, Кто не нуждался бы в упрёках, Как добрый конь не ждёт кнута? Как добрый конь, чуть плетью тронутый, Ретивы будьте, будьте трепетны. И верой, нравственностью, рвением, Сознанья сосредоточением И дхармы ясным постижением Вы в веденье и поведении Добьётесь совершенства полного И трезвенно отринуть сможете Всю эту тяготу великую. Воду оросители проводят. Стрелы оперяют оружейники. Древо обрабатывают плотники. Но самих себя смиряют стойкие. XII. О себе Стань сторожем своим надёжным, Пусть ночью бодрствует мудрец В течение одной из страж. [13] Сначала мудрый сам себя Пусть обратит к достойной жизни, Потом другого обучает, Иначе он не безупречен. Чему других он обучает, Пусть исполняет прежде сам; Смиренный вправе усмирять; Себя смирить – всего труднее. Каждый сам себе владыка, Кто иной владыкой станет? Самого себя смиривший Редкого обрёл владыку. Каждый зло свершает сам – Сам родит, сам производит. Злом крушится скудоумный, Словно яхонт под алмазом. Закоренелый в скверном нраве Лианой, душащею дерево, То, что враги ему желают, Устраивает сам себе. Плохое дело сделать просто, Как самому себе вредить. Зато полезное, благое Свершить бывает очень трудно. Кто поносит безрассудно, Вредного держась воззренья, Наставления достойных Ариев, [14] живущих дхармой, Тот себе же на погибель Плодоносит, как тростник. Зло совершает каждый сам – И оскверняет тем себя. Зло не свершает каждый сам – И очищает тем себя. И чистота, и грязь – свои. Один другого не очистит. Свой предмет и цель свою На чужое имя не меняй, Хоть чужое велико. Ясно знай предмет и цель И усердствуй ради них. XIII. Мир Беспечности не предавайся. Ложным воззреньям не следуй. Мирского в себе не расти. Встань, не предавайся лености – Следуй дхарме так, как следует. Следующий дхарме счастлив В этом мире и в ином. Следуй дхарме так, как следует, И не следуй, как не следует. Следующий дхарме счастлив В этом мире и в ином. Кто этот мир увидит так, Как будто смотрит на пузырь, Как будто видит он мираж, – Того князь смерти не узрит. Вглядитесь в этот пёстрый мир, Подобный царской колеснице. Здесь сокрушаются глупцы, А мудрого ничто не держит. Этот мир живёт незрячим, Редко кто в нём прозревает. Мало тех, кто птицей взмоет К небесам, силки прорвав. Летают лебеди тропой светила. Летают по небу чудесной силою. Но улетают прочь из мира стойкие, Что одолели Мару с его воинством. Для особы, изолгавшейся, Преступившей через дхарму И к посмертью равнодушной, Нет в дурных поступках удержу. Воистину, скупцам нет в горний мир тропы. Поистине, глупцы не станут щедрость славить. Но щедрости своей по праву мудрый рад. Ведь счастие в том мире ему она несёт. Единовластия земного И вознесения на небо, Владычества над всей Вселенной Плод обретенья слуха – лучше. XV. Счастье Среди враждебных не враждуем. Среди враждующих людей Живём мы мирно, не враждуем. Мы, право, счастливо живём, Среди унылых не унылы. Средь унывающих людей Живём мы бодро, не уныло. Мы, право, счастливо живём, Среди недужных не недужим. Среди недужащих людей Живём здоровы, не недужим. Мы, право, счастливо живём, Пускай у нас нет ничего. А пищей будет нам восторг, Как у сияющих богов. Вражду посеет победитель. Страдает тяжко побеждённый. Но счастлив умиротворённый Вне пораженья и победы. Пожара нет, что жарче страсти, Невзгоды нет, что хуже злобы. Нет тяготы, подобной грудам, Покоя выше нет отрады. Недужней всех недугов – голод. Сложённость – тягостей тяжеле. А для того, кто это понял, Унятье всех отрад отрадней. Здоровье выгоднее выгод, Довольство всех богатств богаче, Надёжность всех родных роднее, Унятье всех отрад отрадней. Пригубив сок уединенья И умиротворенья сок, Отбросишь прочь тоску и зло И сок вкусишь блаженства дхармы. Прекрасно – ариев увидеть, Жить среди них всегда отрадно. Ты будешь счастлив постоянно, Не видя никогда глупцов. Тому, кто связан с дураками, Придётся горевать немало; Общенье с дураками тяжко, Как столкновение с врагами, А с умным радостно общаться, Как встретиться с своей роднёй. А потому: С умным и мудрым, много познавшим, Нравственно стойким, в правилах твёрдым, Арием, мужем благоразумным, Вечно пребудьте, как месяц со звёздами. XVI. Приятное А стоящим – не занимается, Стремится к беспредметно-милому, – Себя развившим позавидует. Не привязывайся к милому, А к постылому – тем более. Милого не видеть – тягостно; Тягостно – с постылым встретиться. Пусть ничего не будет мило, Ведь горько с милым расставанье. Свободен тот, кому на свете Ничто не мило, не постыло. Всё милое чревато горем, Всё милое родит опасность. Для тех, кто милое отбросил, Нет ни опасностей, ни горя. Привязанность чревата горем, Привязанность родит опасность. А для отбросивших привязанность Нет ни опасностей, ни горя. Пристрастие чревато горем, Пристрастие родит опасность. А для отбросивших привязанность Нет ни опасностей, ни горя. Желание чревато горем, Желание родит опасность. А для отбросивших желание Нет ни опасностей, ни горя. Влечение чревато горем, Влечение родит опасность. А для отбросивших влечение Нет ни опасностей, ни горя. Совершенный виденьем и нравом, Правду говорящий, твёрдый в дхарме, Верно исполняющий, что должно, – Станет мил и близок многим людям. Чей ум расцвёл и близок к зрелости, К утехам не привязан более, Кто устремился к несказанному, – Вверх по теченью поднимается. Возвращается на родину По чужим краям скитавшийся, – Не нарадуются встрече с ним Все друзья его и родичи. А когда уходит праведник В мир иной, его встречают там, Словно дорогого родича, Здешние добродеяния. XVIII. Порча Уж слуги Ямы наготове. Ты на пороге расставанья, Да нечего с собою взять. Так сотвори же себе остров. Скорей за дело и будь мудрым. Отмывши скверну, в безупречности На небо вступишь, в землю ариев. Твой век уже к концу подходит, Предстанешь скоро перед Ямой. Привала на пути не будет, И нечего с собою взять. Так сотвори же себе остров, Скорей за дело и будь мудрым. Отмывши скверну, в безупречности Вновь не родишься, не состаришься. Благоразумный постепенно, От раза к разу, понемногу Очистит пусть себя от порчи, Как мастер – серебро от черни. Преступителя обетов Его внутренняя порча Ест, как ржавчина железо, И в дурной удел ввергает Неповторенье портит мантру. Запущенность – хозяйство портит. Пригожесть портится от лени. Охранника – беспечность портит. Дурной поступок портит женщину, Даритель портится от жадности. Дурные дхармы же, поистине, И этот, и иной мир портят. Испорченнее же всех порчей Неведенье, начальник порчи. От порчи сей освободившись, Будьте непорчены, монахи! Нетрудно жить без совести – Напористому, дерзкому И по-вороньи наглому, Погрязшему во зле. Да трудно жить по совести – Не нагло, не расслабленно, Стремиться к очищению И не пятнать себя. Кто убивает, лжёт, берёт, что не дано, Идёт к чужой жене, кто пьянству предаётся, – Тот свои корни рубит уже на этом свете. Запомни, добрый муж: дурное неудержно, Неправда и алчба пусть не склонят тебя К делам, что повлекут лишь долгие страданья. По радости своей, по вере Миряне подают монахам. Тот, кто завидует другому – «Его-де угощенье лучше», – Поистине, ни днём, ни ночью Не внидет в сосредоточенье. А кто отсёк в себе такое, Извёл под корень, уничтожил, Поистине, хоть днём, хоть ночью Тот внидет в сосредоточенье. Жарче страсти нет пожара. Хватче злобы нет капкана. Морок частой сети крепче. Жажда – гибельней стремнины. Чужой огрех легко заметить, Свой собственный заметить – трудно. Чужие всяк готов огрехи Провеивать, словно мякину, А свой покроет, словно жулик В игре плохой расклад костей. Кто вечно грех чужой заметит И сыщет повод к недовольству, Тот взращивает тягу к миру, А вовсе не извёл её. Нет следов в пустом пространстве. Нет подвижников вне дхармы. Любо тварям повторять себя. Без повторов пробуждённые. Нет следов в пустом пространстве. Нет подвижников вне дхармы. Вечности нет у сложённого. В пробуждённых нет превратности. |
|
....эээх, боюсь плохо осветил основные моменты ... не все могут правильно понять, а ведь это так важно ... ...ЛЮДИ, если кто-то считает, что вышеизложенного мало, только скажите - я могу еще добавить - свет истины никогда не должен быть в оскудении ... я готов изливать и дальше ... |
| А слайды будут? |
| Многабукаф |
| натурально, 123:, в вашем буддийском миссионерстве столько христианской оголтелости! |
| Это он свой перевод выложил, самый любимый... |
| ... а вы чё, Будду не любите?...нннну, тада можете не читать ... вот так всегда ... стараешься, стараешься... и все зря .... |
| Да, 123:, тут одни нехристи собрались)))) Я с удовольствием читану вечерком под водочку. |
|
...и обратите внимание на эти мудрые слова: ***Кто этот мир увидит так, .... а нас и уговаривать не нада ... мы тока так и смотрим ... |
|
123:, вы, если любите Будду, должны бы знать, что, прежде чем делать широкие презентации буддизма, и уж тем более испытывать силы на поприще проповеди, буддийские учителя настоятельно рекомендуют обучающимся вырасти и достичь необходимого уровня, если вы понимаете, о чем я. в противном случае вы лишь дискредитируете дхарму в глазах собеседников. да, мудрые учителя учитывают принцип ad hominem. надо понимать, это выступление вам плюсов не прибавляет. скажите, надо ли мне вслед за вами исписать 5 листов, чтобы вам стала понятна моя мысль? |
| Для меня можно, я не против, просвещение другим участникам форума требуется ;-) |
| Мото, для просвещения зайдите на сайт русского отделения ФПМТ, глядишь, и на лекцию сходите. погуглите. хороших проповедников в Москве хватает. зачем вам абы какие, в оффтопике? |
|
tarantula ... вы меня изумляете ... я как раз исхожу из того, что мы, русские, по своей природе изначально стихийные буддисты, независимо от того, осознаем мы это или нет ... так какой же еще вам уровень нужен?.. конечно, я могу ошибаться, но вот вы сами прочитайте все вышеизложенное и скажите, что там не так .... |
| Спасибо, tarantula. Я просто из скромности так откивнул: не хочется выражать явно тщетность потуг просветителя 123: исключительно для меня убогого) |
| ...а этимология слова "Будда" вам известна?... это же исконное русское слово ... испокон веков двое русских, встречая третьего задавали самый главный, вечно будоражищий русскую душу вопрос: "Третьим будешь?" .... и неизменный на протяжении тысячелетий ответ "Буду!!!" постепенно трансформировался в "Будду" ... ну а про нирвану нам воще рассказывать не нада - это наше любимое состояние ... сами можем научить любого ... только наливай ... |
|
123:, здесь не так время, место и уровень вещания. или буддизм вечерком под пивко да водочку как раз хорошо форумчанам пойдет - это ж, небось, тот самый он, стихийный русский? но да, ваше право, 123:, если вы всё хорошо обдумали. мне просто немного неприятно периодически натыкаться здесь на ваши "буддийские" гопаки с присвистом. |
|
link 3.10.2011 8:59 |
|
123:, а можно еще раз то же самое, только в картинках, для тех кто ниасилил?... А то просветиться очень хочется, но очень как-то многословно все... |
| мир в котором мы живем, на самом деле boot camp после которого есть другой мир, к которому нас готовят; заповеди - это правила, которые надо соблюдать, чтобы выйти настоящим "солдатом" в тот другой мир; после смерти нас проверят на то, как мы усвоили программу подготовки к новому миру, в котором не достойное "солдата" поведение не допускается ; душа, которая выдержит все и из которой выйдет настоящий "солдат", сможет остаться в том мире; душа, которая не выдержит, будет проходить курс заново, пока не натренируется. так, не? |
|
tarantula ... осторожно, не споткнитесь!... Ну вот вам Бодхидхарма, легендарный основатель дзен-буддизма. |
|
***Дзен - особая форма передачи истины, не связанная с какими-либо трактатами. Прямой контакт с духовной сущностью человека и достижение совершенства Будды... *** прямой контакт!... вы поняли? ... и не фиг тут наводить тень на плетень - захотел и вышел на контакт ... какие вам еще нужны учителя?... |
|
душа - это персонаж из другой игрухи, Дуди. ей, душе, как раз самое то вечерком под водочку покаяться, очиститься. у буддистов её нету. затем и не пьют. 123:, вы б себе лучше под ноги смотрели, мало ли что. как бы в следующей жизни мушиными точками на холодильнике Бодхидхарму рисовать не пришлось.) |
| ... как говаривал в таких случаях Дерсу Узала - "Мухи - тоже люди"... |
| а как они бухать будут, чтобы дзен? |
|
"Муха - источник заразы" Сказал мне один чувак <----> Источник заразы - это я (ты, они, вы, все - прим.) Не убивайте мух" ))))))) |
| муха - это средство перенесения личинок к биологическому мусору, который необходимо стереть с лица земли |
| 123, спасибо за матерьял (пока только последнюю страницу прочитала), вне зависимости от ваших мотивов :) |
| ...дык ... какая разница, какие мотивы ... я сам лично почему к буддизму проникся - в нем есть такой постулат (щас к сожалению не могу его найти), смысл которого в том, что ответ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС можно найти просто посмотрев вокруг себя - т.е. приглядевшись пристально по сторонам вы УВИДИТЕ ответ на любой ваш вопрос ... вот попробуйте на практике - это потрясающе верно, прямо как у дворецкого в "Лунном камне", который находил ответы на свои проблемы в "Робинзоне Крузо" - тоже кстати частный случай применения буддизма на практике, не надо над этим смеяться .... ЭТО - серьезно!.. |
|
Алаверды: Здрасьте! Я родом из Бобруйска. Я - гуру, по-вашему это будет "учитель". Я щас вам расскажу о смысле жизни. Я, в натуре, профессионал, а не любитель. Эй, ну ты там, на седьмом ряду, с портвейном! Сначала маленький экскурс в историю, И Будда - этот тоже был из наших. А сейчас займемся самосозерцаньем, Ежли у вас чегой-то там не так, А теперь послушаем малехо святой музыки, Вот тут уж можно углубляться в себя, Приступаем к маленькому уроку дзен-буддизма. Да, мир и любовь - это вам не хухры-мухры. Харе Кришна, харя Кришны, Майк. 1982 |
| да, меня вот тоже напрягает двоякое отношение к убийству, так-то нельзя, но когда Родину защищаешь - ради Бога. |
|
link 3.10.2011 12:17 |
| а это и не убийство вовсе - это самозащита |
|
123, Так как же все-таки стать синхронным переводчиком? |
|
link 3.10.2011 13:22 |
| улькина, а для чего люди становятся синхронистами? Не думаю, что ради денег. |
| Ради выноса мозга к святым 12 апостолам. |
| Андрей, не коверкай имя собственное, мой казанский культурный друг. Совет. |
|
link 3.10.2011 13:57 |
| все таки, я склонен к мнению, что я не очень культурный мальчик))), но обязательно исправлюсь, нужно только время. |
|
Ulkina... Тут какое-то "высокое вдохновение битвы" требуется. Когда вдруг отключается сознание. Ты автоматически слышишь на одном языке, и говоришь на другом... Чувствуешь себя наполненным до краев стаканом. Но потом взгляд случайно зацепляется за что-нибудь или кого-нибудь, приходишь в себя, и снова начинаешь мучительно и осторожно подбирать слова. |
|
link 3.10.2011 14:02 |
|
123: + 1 лучше не скажешь |
| (скромно потупив бесстыжие поросячьи глазки) ... да разве ж это я? ... это все Будда ...:))) |
|
link 3.10.2011 14:08 |
| Мото, что у нас опять за тема с советами? Думаю, что это лишнее. |
|
Культуру подымай общения с дамами. Мужиков можешь хоть через две маленькие писать. В лобешник получишь, да и делов-то. Другое дело эти неразумные существа. |
|
> это все Будда... Вечернее поэтическое: Вадим Степанцов Кто разрушил стены Трои, Не Парис и не ахейцы Где какая ни случится Не Лаврентий и не Сосо Все они ништяк ребята, Но берется Гаутама Кто нахаркал мне в ботинки? Кто всю ночь мозги мне сверлит Если вовремя на смену И грозится всенародно Я жену на Юг отправил - Я расквасил теще рожу, На меня и на планету Без труда, как говорится, На нем белая панама |
|
link 3.10.2011 15:45 |
|
Мото, это угроза что-ли такая?))) Нужно подобру-поздорову убираться, пока действительно не получил))) |
| Да надо просто, Андрей, любить и уважать женщин, вне зависимости от присутствия/отсутствия у них спинного и головного мозгов |
|
link 3.10.2011 15:53 |
| Данил, поздно))), я уже забоялся... давай налаживай со мной контакт и залечивай моральную травму, которую ты нанес мой чувствительной натуре))) Неужели кулаком или ногой и в лоб? По живому человеку? Да как так можно? Звери вы, московские мужчины))) |
| Не робей. Приеду в Казань. Буду рад встрече. |
|
мммм.. вот это я понимаю, это по-мужски, по-рыцарски. заступиться за даму нонче не всякий потянется. одного не пойму, любезный Мото, почто вас женские мозги разволновали? а кабы они вам когда и встретились, неужели б вам с них какая выгода была? оставьте уже вы их в покое, ей богу. :) |
|
tarantula насчет ,,христианской оголтелости,, хотелось бы поподробнее. |
|
link 3.10.2011 16:05 |
|
Взаимно, Данил!) Кстати парень ты неженатый, много девичьих сердец сейчас екнуло, когда на сайте есть такой галантный молодой человек))) Уверен, что и несколько мужских тоже))) |
|
link 3.10.2011 16:09 |
| Девочки, пожалуйста, не ругайтесь))) Данила парень молодой и по вечерам совершенно свободный, всем хватит))) |
| amat, холиварчика хотите? по-христиански, чтоб сеча крестовая случилась тут или еще чего? :) не в настроении я, уж простите великодушно. |
| Разведенный. Такие никому на х не нужны. |
|
link 3.10.2011 16:13 |
|
Не робей. Приеду в Москву. Буду рад встрече.))) Решим твою маленькую проблему))) |
|
@ tarantula, хобби у меня такое - женщин любить. |
| Мото, да это уже давно мне понятно - тому на форуме много письменных подтверждений. догадываюсь, однако, что любите вы их не за мозги. а при таком раскладе есть там они или нет - дело третье, ну и бритвой бы по нему. |
|
link 3.10.2011 16:36 |
|
Если tarantula за кого-то взялась, то я не дам и 3 центов за его белый зад, Джони. ))) |
|
Tarantula, просто любопытно, какое определение вы дадите для войн за нефть, алюминий и т.д. Или вы как европеец толерантно это называете красиво - экономические интересы? Я католицизм тоже не люблю, но уж лучше за идеи, чем за бабло. |
|
)))))) @ tarantula, за ножки - мой конек, как у нашего великого АСа ;-) |
|
link 3.10.2011 16:45 |
|
\\ но уж лучше за идеи, чем за бабло. \\ действительно - ну сколько человек можно положить за бабло? ну тысячи. ну десятки тысяч. |
|
КЖ, фууух.)) да вы опасный. едва не случилось мне чайком насмерть поперхнуться. и какая бесславная была бы моя погибель.. amat, да, мне, как европейцу или не очень, в основе этих войн представляются именно что экономические интересы. и практически все религиозные идеи, где бы таковые не озвучивались, как мне видится, уже давно трудятся на службе у них (экономических). а у вас какие представленья, не поделитесь? |
| amat, когда будете делиться, пожалуйста попробуйте конкретизировать, вы всех христиан оптом защищаете, или каких-то отдельных в розницу? И если второе, то каких именно? |
| silly wizard, у вас со статистикой путаница. ( я фашизмы и иже с ними не обсуждаю в виду очевидности). Просто все любят о вреде христианства порассуждать, при этом не зная даже текстов Евангельских. |
|
link 3.10.2011 17:11 |
| tarantula, ну тогда я все правильно написал, хотя еще чуть-чуть....))), у меня было еще 15 вариантов, как передать свою мысль, выбрал самый нейтральный, хотя внутренне склонялся к бензопиле "Дружба" и ошметкам оппонентов вплоть до немецкого форума))) |
| о вреде христианства я, заметьте, не рассуждаю. отмечаю только традиционно оголтелую подачу (и то лишь в сравнении с буддийской, а об исламе вообще ни слова, как видите). |
| КЖ, вижу, были мягки - поберегли мою чахоточность. :)) |
| Eu_br, вы, мадам, (я не уверен, что вы женщина, просто показалось) перепутали, не туда зашли. У меня не лавка, чтоб ,,оптом,, или ,,в розницу,, . |
|
link 3.10.2011 17:21 |
|
tarantula, amat, вроде, вменяемый человек eu_br сделал хороший поинт про опт и розницу будем посмотреть))), уже купил колу и чипсы))) |
| Понеслася. Водки литр надо купить. |
|
amat, никакой кусок пиндосского дерьма не может мне указывать, куда заходить. Советую запомнить. и, безусловно, следует учитывать, что евангелия имеют к современному христианству примерно такое же отношение, как конституция 1936 года к реальной ситуации в СССР... |
|
link 3.10.2011 17:24 |
|
amat минус 1, поинт eu_br прошел нормально, спорящий его не понял, это плохо. amat минус 1, |
| РПЦ Попов на фонари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| eu_br, а почему бы не указать? Такие потребительские ассоциации ,,опт и розница,, не часто встретишь среди переводчиков. А насчет конституции советских времен и связи Евангелия с современным христианством, это вы из собственного опыта вывели их (связей) отсутствие или из телевизора? |
|
link 3.10.2011 17:39 |
|
amat минус 1 потому что это, похоже Лазарь))))) когда же eu_br наиграется с такой мышкой-хамкой?) |
|
link 3.10.2011 17:41 |
|
amat минус 1 говорить про телевизор нельзя, потому что нормальные люди его не смотрят |
|
link 3.10.2011 17:46 |
| Ну и что, это все?(((( |
| Классика жанра, нормальные-то не смотрят, верно. А нормальные люди о христианстве ,,оптом,, рассуждают? |
|
link 3.10.2011 17:49 |
|
amat, вы пробовали продать свои идеи оптом, то есть развязать холивар, не получилось. Теперь обращаетесь ко мне, это розница)) Вы нормальная христианка?))) |
|
> почему бы не указать? Потому что дерьмо не может указывать путь. Гадание по дерьму - это примитивная и, не побоюсь этого слова, бесовская практика. >Такие потребительские ассоциации ,,опт и розница,, не часто встретишь среди переводчиков. это вы из собственного опыта вывели их (связей) отсутствие или из телевизора? |
|
Классика жанра, ни одной своей идеи здесь и не было. Разве бывают ,,свои,, идеи? Эко MOTO разошелся, однако. А ,,нормальной христианкой,, меня еще никто не называл, я и не знал, что бывают такие. Спасибо. |
|
link 3.10.2011 17:57 |
|
eu_br, не знаю насколько вы стары, но мудрый это точно. Это все знают и не позволяют себе разговаривать с вами в таком тоне, которым разговаривал спорящий. |
| eu_br, я здесь человек новый, не знал, что вы в ,,бесовских практиках,, разбираетесь. ,,Не ссался я, компотом облился, господин начальник.,, |
|
link 3.10.2011 18:06 |
|
amat, давайте не будем цепляться к словам, хорошо? Вы себе представить не можете, какое здесь скопление мастеров слов. Разберут каждое ваше слово на звуки, из них составят нужные фразы. Вы потом еще удивляться будете, что сказали. |
|
# amat, А потому что это группировка |
|
link 3.10.2011 18:23 |
|
Нет здесь группировки, Данил. Каждого здесь оценивают по профессиональным знаниям и способности вести нормальный диалог одновременно с несколькими оппонентами. Тебя же вроде комьюнити приняло и что, ты теперь группировщик получаешься?))) Что за группировка?)))) Я бы еще разделил тран на дневной и ночной. |
|
link 3.10.2011 18:26 |
| А если нет ни профессиональных знаний и способности дискутировать? Ну тогда заговор))))) |
|
Moto А я думал ,,групповуха,, Классика жанра, просто не ожидал от ,,паханов,, перевода таких эмоций. |
| Андрей, я про попов вообще-то продажных |
|
link 3.10.2011 18:31 |
|
amat, вы что хотели сказать-то? Что за тему хотели поднять? Отпишитесь, мне действительно интересно. |
|
link 3.10.2011 18:33 |
| Да ну тебя, Данил)))), в попы что ли решил податься?))) |
|
@ amat, Вы особо не принимайте все тут близко к сердцу. Жесткачить любят тут. |
|
Нет, Андрей, хоть и прочили меня туда записать. Из-за голоса. Не забыл я старослав, а что с того? Это не мое, я историческую грамматику люблю и простой русский яЗык. А на паперти водка, Martini, соболя, жемчуга. |
|
link 3.10.2011 18:47 |
|
Данил, водка, мартини - это зло! Соболя и жемчуга - для прекрасных дам))), не страдаю от их отсутствия) |
| Хинт: БоГ пиеса "Дело было в Казани". |
| amat, а вы так и не поделились.. |
|
link 3.10.2011 18:58 |
| Да ладно, Данил, было бы дело, его можно делать везде))) |
|
link 3.10.2011 19:06 |
|
* а вы так и не поделились..* штаны менять оне ушли, видать. а то небось липкие после компота. не дай бог, щас мухи поналетят... |
|
tarantula ,,Все религиозные идеи ... на службе у...,, Мне тоскливо наблюдать и отслеживать как люди спекулируют чем угодно, здесь вы правы. Только сами эти идеи качества своего при этом не утрачивают. Посему ваше выражение ,,христианская оголтелость,, - мифическое понятие, ,,оголтелость,, может быть только человеческая. Как не существует буддийского бога, ну конфессия это такая. Короче, я за точность формулировок. natrix_reloaded И откуда в вас столько желчи? Все фрустрации, они проклятые... |
|
tarantula ,,Все религиозные идеи ... на службе у...,, Мне тоскливо наблюдать и отслеживать как люди спекулируют чем угодно, здесь вы правы. Только сами эти идеи качества своего при этом не утрачивают. Посему ваше выражение ,,христианская оголтелость,, - мифическое понятие, ,,оголтелость,, может быть только человеческая. Как не существует буддийского бога, ну конфессия это такая. Короче, я за точность формулировок. natrix_reloaded И откуда в вас столько желчи? Все фрустрации, они проклятые... |
|
link 3.10.2011 21:11 |
|
\\ Только сами эти идеи качества своего при этом не утрачивают. \\ они однако порядочно дискредитируются - личными качествами последователей и неотесанной подачей. |
|
link 3.10.2011 21:16 |
|
Ах, amat, вы прям бальзам мне на душу льете... Когда после пары моих фраз меня удостаивают такой оценки, я начинаю собой гордиться. Я все-таки умею метко использовать слово... И все-таки напишу когда-нибудь книшку. Коль есть ценители. ЗЫ. в фан-клуб не приглашаю, он мне надоел, я его распустила... |
|
Natrix_reloaded Мне кажется, что мы в интерпретации ,,оценки,, с вами расходимся. |
| Ребята, не ссорьтесь. |
|
link 3.10.2011 21:31 |
| да, натрикс, как-то сильно Вы разошлись в интерпретации оценки! =) |
|
link 3.10.2011 21:32 |
|
Да че уж там расходимся... Мне суть важна. Читательский фид-бэк, так сказать... А Вы не парьтесь... То, что было нужно, мной было услышано... Мото, да разве ж я ссорюсь? Я вообще за мир во всем мире... |
| Ну и молодец, Наташа. Короче, войны хорэ устраивать. |
|
link 3.10.2011 22:30 |
| "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (с) |
| Спасибо, мне божественной фамилии хватает |
| amat, я по-прежнему считаю, что в моих словах нет ничего сложного, что нуждалось бы в отдельном популярном разъяснении. и мне не вполне понятно, отчего вам в данном случае так интересна роль искателя "точных", как вы выразились, буквальных формулировок, тем более что эта простая мысль, в том виде, в котором она была представлена, как выяснилось, была вами более или менее понята (не берусь предполагать, каким именно образом вы вывели из неё моё послание о вреде христианства и подоплеке войн за природные ресурсы). любите на досуге громоздить баррикады? порадуйте себя, купите Lego. |
|
tarantula Сложного и правда ничего нет. Просто поражает русская интеллигенция своей бестолковостью и тотальной ,,беспризорностью,, при полном отсутствии религиозных чувств, а если уж какие и выдавила из себя, так относится к религии как к ,,интересной сенсации,,. Какой-то eu_br переносит свои мелкооптовые отношения на христианские конфессии, полагая, что он мудрый, ему можно, типа: вона как ,,срезал,, , народ уже ставки делает - поинт туда, поинт сюда, чипсами запасаемся, Natrix в чужих грязных щтанах изящно поковырялась... Продолжать не хочу. Люди, вы чего-о-о? |
|
amat, I highly appreciate ваше воззвание к лучшим чувствам. Я вот тоже покопалась в своих лучших чувствах и поняла, что в душе мы все очень хорошие. |
| amat, а Вы считаете, что религиозные чувства сами по себе гарантируют толковость и тотальную...э... устроенность? |
|
\\Просто поражает русская интеллигенция своей бестолковостью и тотальной ,,беспризорностью,, при полном отсутствии религиозных чувств, а если уж какие и выдавила из себя, так относится к религии как к ,,интересной сенсации,,. \\ с одной стороны, хочется заметить, что "господа все в париже", как всегда, а с другой.. у нас-то ведь есть Никита Михалков, сияющий русской духовностью на весь мир. вообще, мне показалось, всё это делается в специально отведённых местах. даже не знаю, почему общение здесь то и дело срывается в какие-то крайности. |